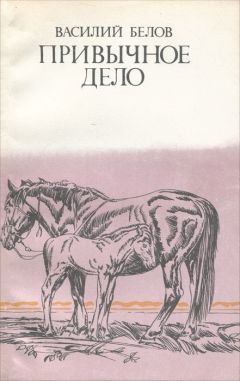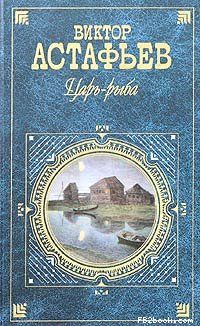их творческому наследию. Трудно избежать апологетики в адрес любимых авторов и ставших родными текстов. Но еще тяжелее писать полуправду и жить под бременем недосказанного и замалчиваемого.
В историко-культурном пространстве России, где писатели спорят о политике на страницах ведущих газет, а политики сочиняют стихи в тюремном заключении, авторская позиция по еврейскому вопросу способна не только зафиксировать климат общества, но и гальванизировать общественное мнение. Начиная с 1860-х годов русские писатели играли ключевую роль в артикуляции еврейского вопроса для широкой читательской публики. Высказывания русских писателей против иудаизма, еврейской идентичности и вклада евреев в историю и культуру России не отличались какой-то особенной глубиной и новизной. Суть проблемы в ином: сначала в царский, потом в советский, а теперь уже в постсоветский период антисемитские идеи и антииудейские посылы легитимировались в национальной культуре именно за счет своего соседства (на страницах романов, рассказов, стихов) с глубокими раздумьями о русском народе или же гениальными описаниями русской природы.
Пожалуй, невозможно вообразить исследователя антисемитизма в культуре, занимающего нейтральную позицию. Пафос обличения почти так же неизбежен, как и сознательная апологетика, и я это хорошо понимаю. Тем не менее, исследуя антисемитизм, я стараюсь отдавать должное не только смыслу и значению авторских высказываний в адрес евреев – высказываний порой грубых и примитивных, – но и кодам идеологии и культуры, которые стоят за этими высказываниями. Это и приводит меня, уже не в первый раз, к разговору о русской деревенской прозе.
Писатели-«деревенщики» и еврейский вопрос
К числу ведущих представителей русской деревенской прозы обыкновенно относят Виктора Астафьева (1924–2001), Федора Абрамова (1920–1983), Василия Белова (1932–2012), Валентина Распутина (1937–2015), Владимира Солоухина (1924–1997) и Василия Шукшина (1929–1974). Диссонирующие голоса «деревенщиков» были особенно слышны на советской литературной сцене в поздние 1960-е, 1970-е и ранние 1980-е годы. В середине 1970-х, отчасти из-за усиления деятельности русского ультрапатриотического крыла внутри советского культурного истеблишмента [6], а также под впечатлением от нарастающей волны эмиграции евреев из Советского Союза, писатели-«деревенщики» оприходовали антиеврейский нарратив российской истории XX столетия. В соответствии с этим тенденциозным нарративом на евреев возлагалась вина за русскую революцию, за превращение России в безрелигиозную страну, за разрушение русской деревни, за манипулирование культурой и средствами массовой информации, и наконец, за то, что они якобы оставили Россию на грани катастрофы. Разумеется, писатели-«деревенщики» были не первыми и не последними – в России и в других странах и культурах, – кто сваливал на евреев ответственность за общенациональные бедствия. Но случай русских писателей-«деревенщиков» примечателен для историков еврейского вопроса именно тем, с какой целокупностью и решимостью они выполняли роль «медиатора» [7]. Я пользуюсь термином философа культуры Рене Жирара, который предложил его в книге «Козел отпущения» (Le bouc emissaire, 1982), посвященной стереотипам преследования. Иначе говоря, укореняя стереотипно-негативное восприятие роли евреев в истории и культуре, писатели-«деревенщики» выполняли одновременно две функции: исказителя информации и связующего звена. Применяя жираровскую модель к советской послевоенной истории, можно заметить, что риторическими и художественными средствами писатели-«деревенщики» преодолевали барьер между «незначительностью индивидуума» (будь он русский или еврей) и «громадностью тела общества» (советского и постсоветского).
Вспомним роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» (1890), в котором этическая деградация героя приводит к его эстетическому обезображиванию. Нечто подобное наблюдается и в случае с упадком деревенской прозы. Упадок этот наступил не только в силу стагнации и приближавшегося конца советской системы, но и в результате внутреннего конфликта между художником и носителем ультранационалистических идей. Неспособные или не пожелавшие писать о евреях с той же мерой правдивости и ответственности за свои слова, с которой они писали о русских, некоторые из писателей-«деревенщиков» выражали гнев, бессилие и растерянность в экстремистских дискурсивных заявлениях, в то время как другие перешли от сочинения оригинальных романов и рассказов о деревенской жизни к посредственной городской прозе, пронизанной предрассудками, а также к ходульным историческим романам, воспроизводящим общие места христианской юдофобии и современного антиеврейского дискурса.
В настоящей работе мне хотелось бы осветить карьеры трех известнейших и крупнейших представителей русской деревенской прозы, Виктора Астафьева, Василия Белова и Валентина Распутина. В жизни и творчестве этих «трех В» русской деревенской прозы воплощены разные траектории послевоенной советской литературы, разные пути писателей-«деревенщиков», – ветерана Великой Отечественной войны, крестьянского коммуниста-карьериста и провинциального интеллигента.
Виктор Астафьев. Нутряной антисемит вопреки самому себе
Виктор Астафьев родился в 1924 году в селе Овсянка в Красноярском крае и в детстве лишился отца и матери. Астафьев пошел добровольцем на фронт и воевал в 1943–1945 годах, после войны работал на Урале и обратился к литературному труду только в начале 1950-х годов. В 1959–1961 годах Астафьев учился на Высших литературных курсах в Москве. На заре своей литературной карьеры он видел много добра от представителей советской интеллигенции, таких как литературные сотрудники «Нового мира» Борис Закс и Анна Берзер1. Тем не менее с первых публикаций и до конца его дней произведения Астафьева были пропитаны враждебностью к интеллигенции. Интеллигенты, значительная часть которых у Астафьева маркирована еврейским происхождением, изображены как люди высокомерные, весьма ограниченно понимающие жизнь простых русских. Вот выдержка из письма 1959 года: [8]
Хотя Лев Никулин и уверяет, что житье в Москве якобы возвышает людей культурно над периферийщиками, я все же остаюсь ярым приверженцем «бескультурной», но и не объевропеившейся, в худшем смысле того слова, периферии. Старый пердун он, этот Лев, если так позволяет себе думать о так называемой периферии. Она ему все кажется сирой Русью, какой была до отмены крепостного права [9].
Астафьев почти без исключения реагирует на реальных евреев в негативно-стереотипном ключе и рисует еврейских персонажей как нечистых на руку, надменных, трусливых и гротескных. Анекдотический антисемитский оборот «хоть еврей, но хороший человек» он употребляет без малейшей интроспекции. В 1974 году заболевший пневмонией Астафьев пишет жене из винницкой больницы:
Мест нигде нет – все забито. Его [кинорежиссера Артура Войтецкого] школьный соученик, профессор Шкляр, освободился лишь вечером (еврей, а мужик хороший, твердый, чуткий) – аж побелел, обзванивая всё и вся. К ночи меня уже увезли в санлечуправление (так здесь называется спецклиника) [10].
В ранней повести «Звездопад» (1961) появляется фотограф с абсурдным для еврея сочетанием имени и отчества и не менее издевательской фамилией – Изик Изикович Шумсмагер, – которая, похоже, анаграмматически («шум-бум») отсылает к Исаю Фомичу Бумштейну из «Записок из Мертвого дома» Достоевского. В большом цикле рассказов и мемуарных записей, названном «Последний поклон» (1968–1988; 1989), автобиографический герой