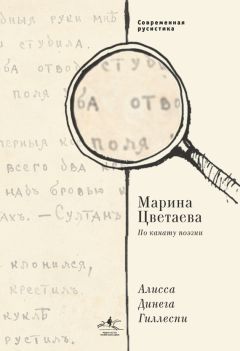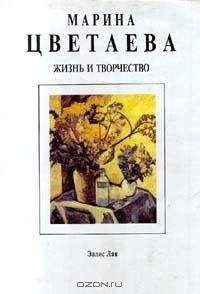об
агонии самого поэта, где духовное и сексуальное, страсть и пытка тесно переплетены,
само по себе становится смыслом его пророчества.
Тонкая грань между священным и профанным
Если в «Тени Баркова» речь идет о сакрализации сексуального влечения во имя поэзии, то «Пророка» можно рассматривать как ее противоположность – проигрывание темы духовного аскетизма в мучительно сексуальном ключе. В обоих случаях травматическое, но все же возвышающее совокупление безвозвратно меняет поэта, хотя и описана эта трансформация в разных стилях (комическом и возвышенном). Сексуальный кризис в «Тени Баркова» – угроза импотенции и кастрации; «перепутье», на котором оказывается поэт в начале «Пророка», – метафора в равной мере утраченной девственности и духовного кризиса. На самом глубинном уровне это стихотворение повествует об утрате невинности и осознании того, что написание стихов – не поверхностное занятие, но серьезный экзистенциальный выбор, требующий от поэта готовности подчинить тело и душу абсолютному насилию со стороны поэтического вдохновения и принять последствия и обязательства, налагаемые этим решением. К моменту написания «Пророка» подростковое понимание мужской зрелости (поэтической и сексуальной) как хвастливого мачизма сменяется у Пушкина трезвым осознанием этой суровой этической реальности.
В процессе взросления Пушкин перевел полемику о стилях, составлявшую фон «Тени Баркова», в личную сферу: в свободном, почти избыточном употреблении высокопарных архаичных грамматических форм и библейских старославянизмов на протяжении всего текста «Пророка» (таких как «персты», «зеницы», «отверзлись», «мудрыя», «десница», «отверстый», «глас», «виждь», «внемли», «глагол» [в значении «слово»] и других) он пародирует язык торжественных од Державина и праведной поэзии декабристов не с тем, чтобы высмеять его, но чтобы сделать его своим. Это требует внести поправку в наблюдение Рама о том, что «пророческий топос в русском стихе связан как с религиозным или эстетическим опытом, так и с поэтическим переосмыслением имперской истории» [Ram 2003:172]: для Пушкина в «Пророке» пророческий топос также связан с переосмыслением сексуального опыта. В этом стихотворении Пушкин повторяет манеру самого Державина соединять высокие и низкие материи; такая апроприация мощной и динамичной поэтики своего предшественника и претворение ее в собственный духовный и телесный опыт – в свою душу, свои голосовые связки – может пониматься как один из источников насилия, которому он подвергается. Подобно Сивилле, он переживает пытку говорящим через него державинским голосом.
Этот намек на глубоко личную природу «Пророка» проливает новый свет на вариант первой строки стихотворения: «Великой скорбию томим». Эта строка вводила в заблуждение исследователей, которые, как правило, считали ее отрывком из одного из первых черновиков стихотворения и трактовали в политическом ключе, связывая со скорбью Пушкина о судьбе пяти повешенных декабристов и его верой в свое пророческое призвание, обусловленной тем, что сам он чудесным образом избежал их участи [95]. Однако «великая скорбь» – это также образ из Апокалипсиса, под которым понимается время, когда будут наказаны неверующие и отвернувшиеся от Бога. Исходя из моего прочтения «Пророка», согласно которому это внешне целомудренное стихотворение содержит слой скрытых непристойностей, строка «великой скорбию томим» не была частью раннего черновика (в конце концов, список стихотворений, в котором она фигурирует, был составлен в 1827 году, когда «Пророк», как мы знаем, был уже написан), но служит, скорее, ироническим комментарием к собственному тексту, написанным уже после создания стихотворения, – то есть перед нами еще одни слой закодированной самопародии, содержащий признание Пушкина самому себе в «грешности» истоков своего поэтического голоса. В конечном счете он, судя по всему, воспринимает свой подвиг тайного бурлеска в «Пророке» – искусное сочетание возвышенного и богохульного – со смешанным чувством удовлетворения и досады.
Как показал Гаспаров, для Пушкина серьезное и комическое сливаются, а священные тексты и образы (такие, как Коран или Аполлон) могут приобретать демонические признаки [Гаспаров 1999: 237,247]; О. А. Проскурин также утверждает, что для Пушкина «любые религиозные символы имели условный и относительный смысл: они были нужны единственно для манифестации мысли о сакральности поэзии» [96]. Разные пушкинские герои и тексты по-разному располагаются относительно разделительной линии «священное – профанное», этой «тонкой грани между серьезностью и шуткой» (вспомним насущный вопрос Татьяны, обращенный к Онегину: «Кто ты, мой ангел ли хранитель, / Или коварный искуситель» [V: 62], – то есть создан ли ее возлюбленный по образу серафима или тени Баркова). Но они никогда не бывают тем или другим в чистом виде; скорее, они ведут себя сообразно непристойным словесным играм арзамасцев, описанным в статье Шапира: «Сквозь одно значение слова то и дело проблескивало другое, тайное, иногда становившееся почти явным» [Шапир 1993: 69] [97]. Яснее всего эта поливалентная языковая, образная и символическая многозначность видна в стихотворении «Пророк» – если только мы не боимся смотреть.
Можно заметить, что в более поздних произведениях Пушкина тождество между поэтическим и сексуальным влечениями становится менее явным и менее однозначным. И все же я полагаю, что это тождество присутствует во всем творчестве поэта, пусть и приглушенно. Бетеа рассматривает казнь декабристов и написание «Пророка» как водораздел в творческой жизни Пушкина: «Чем ближе Пушкин после 1825 г. подходит к священному пространству мифа или религиозного восприятия, тем менее он склонен использовать этот “доступ” для каких-либо скрытых целей»; «Хотя юмор, скабрезность и нежелание морализировать присущи произведениям Пушкина вплоть до 1830-х гг., после 1826 года не остается ни следа от строго “вольтерьянского” элемента, т. е. “атеистического” высмеивания религиозных чувств» [Bethea 1998: 98, 174]. Ничто в моем анализе не следует трактовать как противоречащее этим наблюдениям. Стихотворение «Пророк» действительно посвящено «высокому призванию поэта» (формулировка Бетеа); при этом автор использует в нем поэтику непристойного не ради насмешки, но для демонстрации понимания (возможно, даже безотчетного), что человек не в состоянии разграничить высокое и низкое. Отнюдь не противореча этическим принципам, направляющим поэзию Пушкина, использование сексуальных образов и даже непристойной лексики служит условным кодом, который действенно и решительно указывает на способность искусства преодолевать границы, выходить за пределы и преображать. Ни репрессивная власть цензуры, ни консервативные ограничения со стороны общества и церкви не могут подавить жажду поэтической свободы, как бы она ни была сопряжена с опасностью и страданием. Как и секс, поэзия живет везде и будет продолжать жить, даже если ее не печатают и держат в тайне.
Когда знакомая Пушкина А. О. Смирнова-Россет однажды заметила, что Пушкин был «любителем непристойного», другой приятель Пушкина, дипломат Н. Д. Киселев, ответил, крайне озадаченный, что сам «никогда не мог себе объяснить эту антитезу перехода от непристойного к возвышенному [у Пушкина]» [98]. Мой анализ поэтики непристойного в творчестве Пушкина можно интерпретировать как запоздалый ответ на недоумение Киселева. Как я показала,