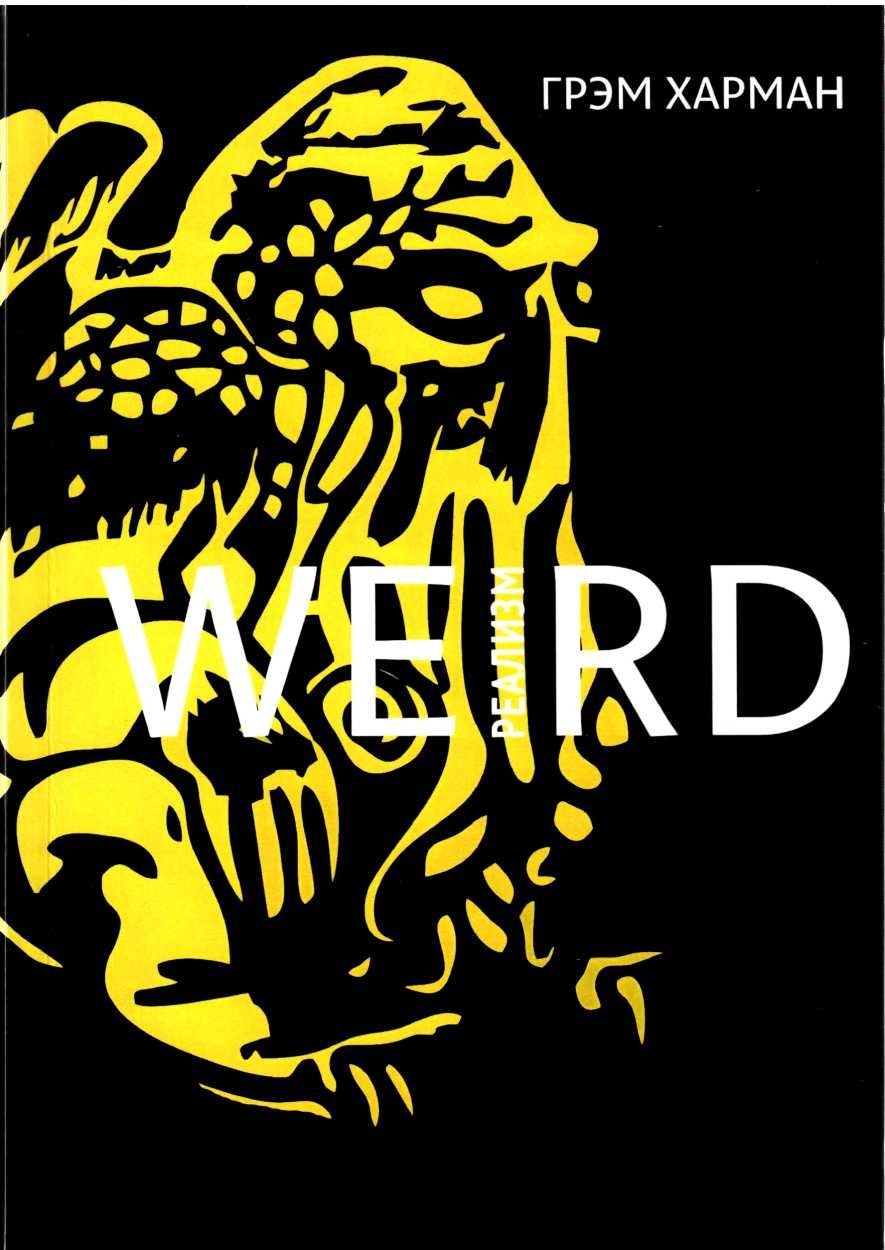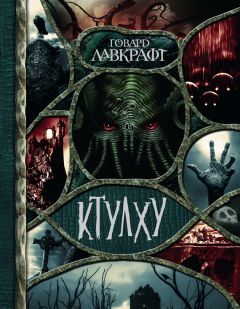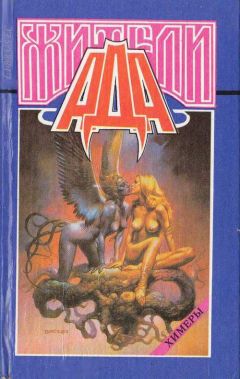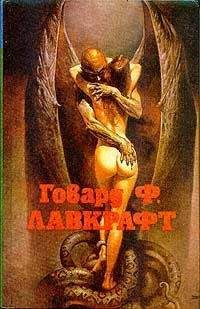«Почти неразличимая речь на незнакомом языке, доносившаяся из тумана внизу, была, судя по обилию пауз между словами и приглушенным интонациям в голосе, чем-то вроде обещания». Таким образом, можно было бы, наверное, даже реконструировать универсальную вербальную структуру обещаний. Но способность делать такие выводы кажется как минимум жутковатой.
Что же касается способа испортить приведенный в начале пассаж, то проще всего было бы дать избыточное количество деталей относительно того, как именно ученые пришли к этому выводу: «Помещенная в огромном гроссбухе, состоявшая из странных и с трудом различимых символов рукопись была сочтена дневником на основании обилия пробелов и разнообразия чернил и почерков. Согласно данным почерковедческих архивов факультета криминалистики Мискатоникского университета, междустрочные интервалы в дневниковых записях обычно составляют от 0,4 до 0,6 см, что превышает среднее значение для рукописных текстов; средняя ширина интервала между строками в гроссбухе Уилбера составляет 0,57 см и более, что позволяет отнести этот документ скорее к дневниковым записям, нежели к обычной прозе. Также в документе были идентифицированы до семи различных видов черных чернил и четыре-пять видов синих. Это указывает на то, что работа над документом велась в течение продолжительного времени, чего и следует ожидать от дневника. Постепенная эволюция почерка также свидетельствует в пользу этого». Такая детальность была бы скучной и излишней. Но, что гораздо важнее, она лишает нас аллюзии к жутковатой проницательности научных выводов, на которую намекает исходный пассаж.
35. Колдовские формы арабского Востока
«Армитедж предположил, что алфавит использовался исключительно приверженцами некоторых запрещенных древних культов, которые вобрали в себя множество колдовских форм и традиций сарацинского Востока» (DH 398; УД 130 — пер. изм.).
Начало пассажа («Армитедж предположил, что алфавит использовался исключительно приверженцами некоторых запрещенных древних культов») повторяет в несколько ослабленной форме предыдущий пассаж о пробелах, чернилах и почерке дневников. Нам ничего явным образом не говорится о том, на каком основании Армитедж «предположил» это, но ясно, что в алфавите должны были содержаться какие-то указатели, наведшие старого ученого на эту мысль.
Но самая яркая часть этого пассажа — венчающая его фраза «множество колдовских форм и традиций сарацинского Востока». Слово «сарацин» — замысловатое и старомодное именование арабов, которое в последнее время стало считаться несколько оскорбительным. Тем не менее оно позволяет нам ментально проникнуться духом Средних веков, поскольку именно в те времена оно было в ходу. То же касается и слова «колдовской» (wizard), соотносимого со Средневековьем или фэнтези. Однако это слово обычно не ассоциируется с арабским миром, применительно к которому мы, скорее, сказали бы «маг» (термин, зачастую связываемый в библейских землях с лжепророками).
Заменив данную фразу в вышеприведенном пассаже на «множество магических форм и традиций арабского Востока», мы слегка ухудшим пассаж, но не испортим полностью, поскольку слова «магический» и «арабский» все еще звучат достаточно свежо и экзотично для протестантской Новой Англии, в которой происходит действие. Чтобы совсем испортить пассаж, нам придется заменить «сарацинский Восток» на совсем уж прозаичный «Ближний Восток». Фраза «магические традиции Ближнего Востока» звучит почти смешно в лавкрафтианском контексте. В отличие от «сарацинского Востока», для «колдовских традиций» трудно придумать скучный эквивалент, поскольку, как эту профессию ни назови, она все равно неразрывно связана с чарующим и чудесным. Важнее, что во фразе «колдовские формы и традиции сарацинского Востока» Лавкрафт попросту использует трюк, описанный Аристотелем в XXII главе «Поэтики», где тот отмечает, что хорошая речь должна быть «ясной», но «не низкой». То есть она должна содержать некоторое количество метафор или редких слов, но не должна превращаться в загадку:
...Речь торжественная и уклоняющаяся от обыденной — та, которая пользуется и необычными словами; а необычными я называю редкие, переносные, удлиненные и все <прочие>, кроме общеупотребительных. Однако если все сочинить так, то получится или загадка или варваризм: из переносных слов — загадка, а из редких — варваризм. Действительно, в загадке сущность состоит в том, чтобы говорить о действительном, соединяя невозможное, — сочетанием <общеупотребительных> слов этого сделать нельзя, <сочетанием же> переносных слов можно, например: «Видел я мужа, огнем прилепившего медь к человеку» и т.п. А из редких слов возникает варваризм. Поэтому следует так или иначе смешивать одно с другим: с одной стороны, слова редкие, переносные, украшательные и иные вышеперечисленные сделают речь не обыденной и не низкой, с другой стороны, слова общеупотребительные «придадут ей> ясность [82].
В пассаже, которому посвящен этот подраздел, фраза «которые вобрали в себя множество колдовских форм и традиций сарацинского Востока» эффектна потому, что необычность «колдовских» и «сарацинского» разбавляется прозаичным «вобрали в себя множество форм и традиций». Следуя Аристотелю, мы можем превратить этот пассаж в загадку, заменив буквализмы переносными словами, то есть метафорами («помещены в картинные рамки и опутаны бабкиной пряжей колдунов сарацинского Востока»), или в варваризм, подставив редкие слова («был завещан жребий и пути колдунов сарацинского Востока»). Лавкрафт избегает этих крайностей и тем самым проходит аристотелевский тест из «Поэтики».
36. Полиция штата Массачусетс
«Сначала в ходе дебатов прозвучало предложение оповестить полицию штата Массачусетс, но в конце концов решено было этого не делать, ибо здесь речь шла о феномене, в реальность которого невозможно было поверить, не увидев того, что видели трое ученых мужей, как наглядно показало последующее расследование» (DH 401-402; 134 — пер. изм.).
Постоянно возникающая у Лавкрафта проблема — как объяснить, что столь экстраординарные события, описанные в его рассказах, не становятся мгновенно достоянием общественности благодаря полиции и средствам массовой информации. Он обращается к этой проблеме самыми разными способами. В ряде рассказов университет и отчасти полиция вовлекаются в происходящее («Цвет иного мира», «Сны в ведьмином доме»). В других — правительственные силы действительно одерживают верх и истребляют несущих угрозу монстров, хотя и не дают знать об этом общественности («Мгла над Инсмутом»). Еще в одной истории («Ужас Данвича») СМИ сообщают о происходящем, но подают это как нелепую шутку или помешательство. В другом случае («Шепчущий из тьмы») отправное событие — зрелище чудовищных трупов в разлившейся реке — опровергается в газетах как недоразумение, а более поздние события намеренно замалчиваются Уилмартом и Эйкли, двумя людьми с незапятнанной репутацией, знающими, что случилось на самом деле. Два рассказа («Хребты безумия» и «Мгла над Инсмутом») представлены в качестве серии публичных отчетов-предупреждений, тогда как в другом произведении («За гранью времен») решение о публикации остается за сыном рассказчика. Короче говоря, Лавкрафт рассматривает эту проблему со всех возможных точек зрения. Единственное, чего мы никогда не видим в