Марта умерла в гостиничном номере, за белой дверью с цифрой 21 (двое против одного?), несмотря на сопровождение и поддержку звонившего Драйеру студента, сына меховщика Шварца из Лейпцига (кротовая шуба Марты, видимо, была его работы), и танцмейстера, «который ходил взад и вперёд, как часовой», а также стараний вызванного ими «знаменитейшего доктора», случайно обретавшегося в гостинице.4441
Тщательно разработанный Мартой план нарушили «оборотни случая»: капризы погоды и случайно подвернувшееся Драйеру выгодное дело с манекенами. Но был и детерминант – алчность, побудившая Марту пренебречь погодными условиями, хотя она хорошо знала, что холод и дождь ей противопоказаны. И та же её алчность спасла ничего не подозревавшего Драйера, побудив Марту отложить достижение намеченной цели. Марта погибла случайно, но «по закону индивидуальности», сформулированному автором – Набоковым, что, впрочем, более или менее соответствует известному, общепринятому «характер – это судьба», или, наоборот, «судьба – это характер», что, опять-таки, примерно одно и тоже.
Франц – прозревшая, но обездвиженная, не имеющая своей воли жертва эмоционального вампиризма Марты – освобождается только через её смерть. Катарсис оборачивается мгновенным переключением интереса Франца на объект, ему адекватный и доступный: «…горничную, крупную, розовую девицу… Он мельком подумал, что, пожалуй, можно было её ущипнуть сейчас, не откладывая до завтра». Приступ истерического смеха, заказанный в номер ужин и наказ горничной не будить завтра раньше десяти довершат выздоровление.4452
Идеальное преступление не удалось, Драйзер был посрамлён. Но не только и даже не столько в нём одном дело.
Драйер, добрый, трогательный Драйер, скорбит о самом дорогом, что было в его жизни, – улыбке Марты: «В темноте ночи, куда он глядел, было только одно: улыбка, – та улыбка, с которой она умерла, улыбка прекраснейшая, самая счастливая улыбка, которая когда-либо играла на её лице… Красота уходит, красоте не успеваешь объяснить, как её любишь…»4463 – автор не скупится, от имени Драйера, на целый реквием по красоте.
Но Драйер – и это его роковая слепота – так и не понял, что всегда пряталось за улыбкой Марты, и не мог, разумеется, знать, какая страшная суть её личности отразилась в фантасмагории её предсмертного бреда, в котором она, с помощью Франца, раз за разом пыталась его, Драйера, уничтожить. Марта и Франц – олицетворение сил, противостоящих свободе творчества: они представляют собой симбиоз властности, алчности и слепой покорности. Флёр прекрасной улыбки Марты и успокоительная ординарность образа незадачливого племянника, – не догадывается Драйер, – витрина, за которой скрывается не только стремление к обеднению его личности, но и угроза самой его жизни. До тех пор, пока он не преодолеет самоуверенное верхоглядство эгоцентрика, он будет способен видеть только витрину и, в лучшем случае, останется художником первого наброска, незаконченного эскиза.
Влекущее Драйера море, где «на горячем песке – блаженство, отдохновение, свобода», – симптом высвобождения творческих сил, которым давно уже стало скучно в тисках границ, определяемых улыбкой Марты. Хватит ли ему «ретроспективной проницательности и напряжения творческой воли»4471 его создателя, чтобы когда-нибудь стать настоящим Королём, разгадав и осуществив в полной мере замысел своей судьбы?
Таким образом, отфутболив от своих ворот мяч-триггер романа Драйзера, послав куда подальше его причинно-следственную бухгалтерию, голкипер Набоков остался сам и оставил нас с «продлённым призраком бытия» своего героя. По сути, ради этого и был написан роман, это – его шекспировского смысла «быть или не быть», а вовсе не конвейерные «пузеля» любителей детерминистских конструкций – с ними и так всё было ясно Набокову. Поможет ли Эрика-эврика, «случайно» – авторской волей – встреченная на улице героем, – поможет ли она Драйеру понять, что смотреть – это желательно также и видеть, а не просто «скользить» взглядом. И преодолеет ли он свою, такую деликатную застенчивость, прекрасно ему известную и мешающую «просто и серьёзно» общаться с людьми. Есть нечто в атмосфере финала романа, в далях, манящих героя за горизонт, – есть нечто светлое, освобождающее, обещающее надежду.
«ЗАЩИТА ЛУЖИНА» – РОКОВОЕ ПРЕДНАЧЕРТАНИЕ
В предисловии к американскому изданию «Защиты Лужина», вышедшему в 1964 году (то есть 35 лет спустя после написания романа), Набоков определил судьбу своего героя как «роковое предначертание».4481 Идея подобного персонажа витала в воображении автора, по-видимому, задолго до его воплощения, а возможно, даже и осознанного замысла, однако это уже относится к области домыслов и предположений, как та сафьяновая книжечка с карманными шахматами, найденная за подкладкой пиджака Лужина, – «но уже темно было её происхождение».4492
Достоверно известно, что, вернувшись с пляжей Померании в Берлин 20 августа 1927 года с замыслом второго своего, «карточного» романа, Набоков застал эмигрантскую публику в ажиотаже лихорадочного возбуждения: Алёхину предстоял матч с Капабланкой на звание чемпиона мира. Эта атмосфера, очевидно, послужила триггером, подстегнувшим давно зревший замысел. Набоков просит мать, той осенью собиравшуюся навестить его, захватить с собой из Праги его шахматы. В середине октября он пишет стихотворение «Шахматный конь», прозрачно предвещающее «Защиту Лужина». Три недели спустя появляется его восторженная рецензия на книгу Зноско-Боровского «Капабланка и Алёхин», также послужившую материалом для будущего романа. Все эти сведения приводятся Бойдом, но при этом он отмечает ещё один, очень важный момент – хронологически как бы параллельное зарождение и развитие замыслов двух романов: «В конце сентября Набоков обдумывал начало своего нового романа, но к работе ещё не приступил. Тем временем замысел его третьего романа уже был на подходе».4503 «Тем временем» и «на подходе» нельзя понять иначе, как синхронное или близкое к тому обдумывание совершенно разных, как будто бы, сюжетов: истории неудавшегося преступления и трагедии гениального шахматиста. Столь длительное сопутствие двух разных замыслов – каждого герметично замкнутого только на себя – кажется бессмысленным и неправдоподобным. Какая-то должна была быть между ними связь, что-то важное, что объединяло. Свобода «чистого вымысла», которой Набоков впервые объяснил выбор среды и персонажей в «Короле, даме, валете», впоследствии стала чуть ли не дежурным оправданием как раз тех произведений, в которых Набоков угадывался как (повторим снова за Барабтарло) «на удивление эмпирический писатель», решающий таким способом свои, остро насущные проблемы.
Приближаясь к своему тридцатилетию, возрасту человеческой и, желательно, не слишком отдалённой творческой зрелости, Набоков был озабочен поиском модели Идеального Творца, на что и направлена глубоко запрятанная имплицитная связь между героями двух романов: Драйером и Лужиным. Над двумя отдельными замыслами висит невидимый, но ключевой значимости мост единого и с большой буквы Замысла. Однако доказательно это выявляется только сравнительным ретроспективным анализом. Взятое по отдельности, само по себе, каждое из этих двух произведений может быть воспринято читателем только в той половине смысла, которая непосредственно к нему обращена – как сторона Луны, постоянно обращённая к Земле.
Но всё по порядку. Итак, первым на очереди оказался всё-таки «Король, дама, валет», по причинам вполне естественным и понятным – писать его было заведомо легче и быстрее. Отделав чистовик «КДВ» летом 1928 года, автор приступил к «Защите Лужина» в феврале следующего, 1929-го, в спокойной обстановке маленького курортного местечка Ле-Булу, в горах на границе Франции и Испании, чередуя писание с давно вымечтанной ловитвой бабочек. Заканчивать роман пришлось уже в Берлине: «Кончаю, кончаю… – но какая сложная, сложная махина», – писал Набоков матери 15 августа.4511 Публикация нового романа пришлась на октябрь 1929-го – апрель 1930-го в «Современных записках», и отдельным изданием «Слово» выпустило его в 1930 году.
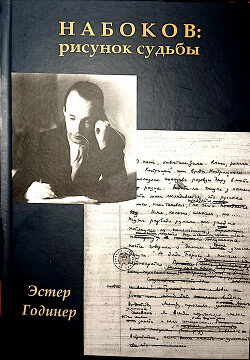



![Карочка - [email protected] - Наследники](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)