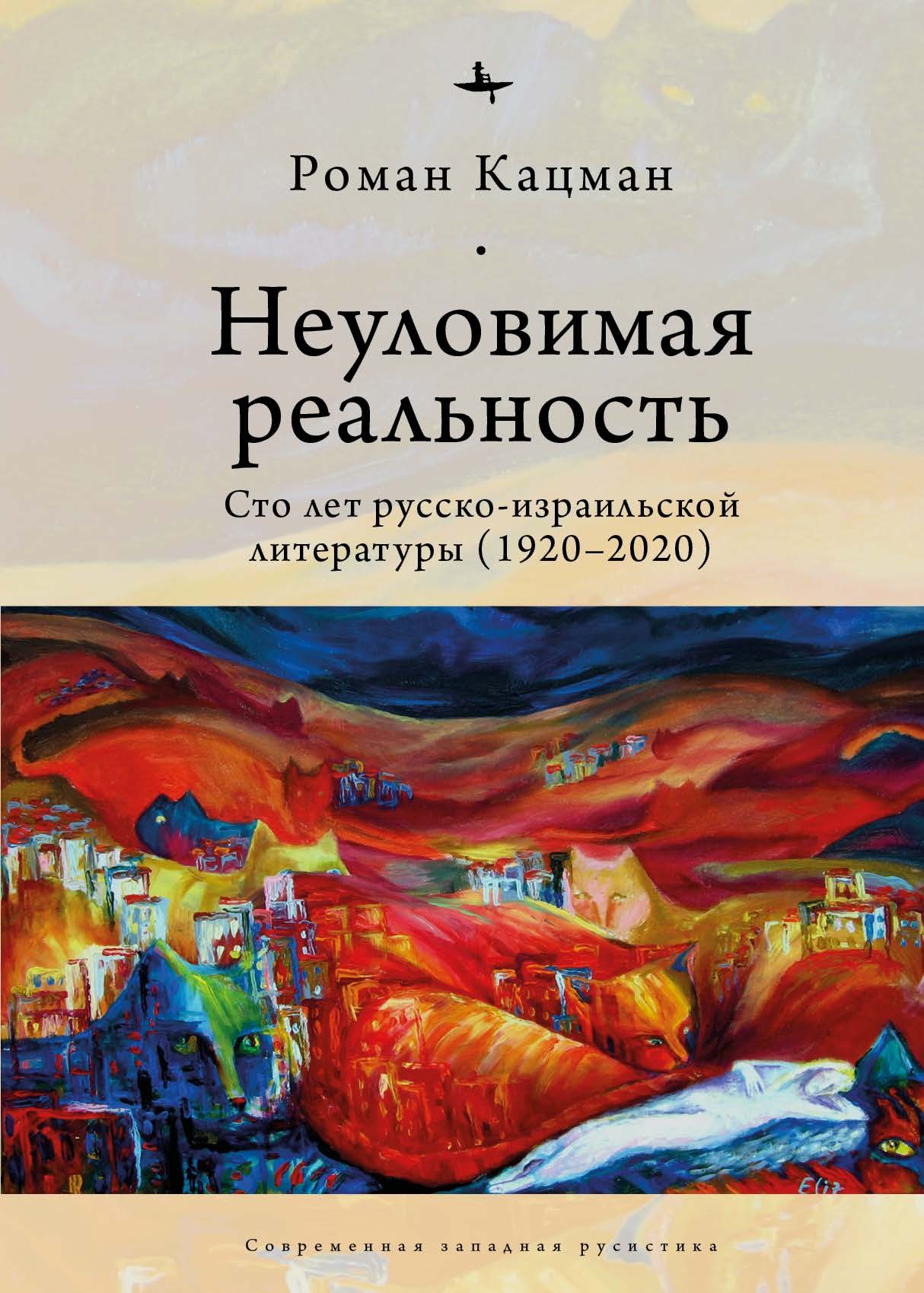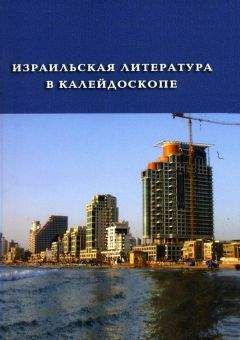черпающем вдохновение в идеях спекулятивного реализма [Speculative Aesthetics 2014], или в разнообразном и весьма популярном сегодня техно-поэтическом, автоматическом и электронном искусстве [Hayles 2012] [11]. Несмотря на все усилия философов, искусство и мифотворчество неизменно возвращаются к попавшему в немилость антропоцену, поскольку неизменным остается факт, который при всем желании невозможно игнорировать: единственным потребителем искусства и мифов был и остается человек.
Спекулятивный реализм в творчестве таких мыслителей, как Г. Харман и К. Мейясу, пробил брешь в понимании реальности. Отталкиваясь от идей М. Хайдеггера и Делёза и отчасти дублируя идею Лакана о психологическом порядке реального [Lacan 2002], они приходят к парадоксальному на первый взгляд тезису о реальности как о тех свойствах объекта, которые исключены из инструментальных отношений с субъектом. Реально лишь то, что не дано с необходимостью, контингентно; что может быть, а может и не быть. На самом деле здесь нет парадокса: для того, чтобы избежать тавтологического определения реальности, необходимо признать, что она представляет собой такой когнитивный стиль, в котором любые поступающие в сознание данные воспринимаются как преодолевшие порог небытия, а значит, существовавшие прежде в небытии. Это преодоление не может быть необходимым, потому что в таком случае оно должно быть уже всегда осуществленным. Но оно и не может быть свободным, потому что тогда оно включало бы в себя волю познающего, которая никак не может относиться к небытию. Следовательно, это преодоление контингентно. Реально не то, что есть, а то, чего не было и могло и не быть, но что стало и что именно в силу этого стало познанным. Реальность есть становление и хаос (см. [Мейясу 2015: 90–91, 191–194]).
В свое время Ж.-Ф. Лиотар, отталкиваясь от кантовского понятия возвышенного, предложил считать искусством постмодерна «то, что внутри модерна подает намек на непредставимое в самом представлении; <…> не поставлять реальность, но изобретать намеки на то мыслимое, которое не может быть представлено» [Лиотар 2008: 31–32]. Не столько анализируя, сколько призывая «не поставлять реальность», Лиотар в пафосе своего манифеста полагает, что «поставлять реальность» все же возможно, хотя и нежелательно. Призывая художника стать философом, а зрителя – отказаться от удовольствия от формы, Лиотар заведомо заключает постмодернизм в эзотерические границы, справедливо предполагая, что ему не суждено стать общей теорией реального [Лиотар 2008: 31–32]. Мейясу отмечал, что подобные попытки представить реальное как непознаваемое приводят лишь к новому фидеизму, фанатизму и «религизации» в философии [Мейясу 2015: 63–69], а Харман показал, что такие попытки неизбежно «подрывают» и «надрывают» онтологию объекта, без которой невозможен разговор о реальности [Харман 2015: 18–29]. В объектно-ориентированной онтологии Хармана объект возвращается во всей своей сложности: реальность не может «поставляться», она не сводится ни к материальному, ни к форме, ни к тому, что коррелирует с познанием и его категориями, она сама по себе не может ни служить, ни не служить источником представления и удовольствия от него либо страдания от невозможности представления. Реальность не может «поставляться», потому что она живая и состоит из объектов, ведущих себя как живые личности, и в этом спекулятивный реализм начала нашего века удивительным образом смыкается с персоналистической феноменологией начала прошлого века.
Хайдеггеровски преломленное аристотелевское рассуждение о становлении позволяет увидеть, что реалистический когнитивный стиль лежит в основе мифического дискурса, который также представляет становление, преодоление неинструментализируемым объектом порога небытия. Это видение не противоречит теории мифа Лосева: объект аналогичен понятию личности, сокрытость его неинструментализируемых сторон аналогична понятию трансцендентного, а становление аналогично чуду реализации личности. Преимущество понятийного аппарата спекулятивного реализма в том, что он не метафизичен. С его помощью еще проще обосновать внетрудовой характер мифического чуда: в нем познание объектов осуществляется, так сказать, без применения инструментов и потому не может быть описано в терминах труда и производства. Общность именно так познанных объектов и составляет реальность. Можно даже сделать далеко идущий вывод о том, что область реального совпадает с областью мифического, поскольку любое познание реального объекта предполагает «чудесное» откровение его неинструментальности, то есть конструирование такого отношения с ним, в котором он сам предстает как становящийся субъект отношения, источник, в терминах Когена, или личность, в терминах Лосева. Такое отношение приобретает форму диалога с «другим», который был хорошо описан в теориях М. М. Бахтина и Э. Левинаса. «Неготовость» реальности у первого [Бахтин 1986; Бахтин 1996] и «бесконечность», отделяющая субъект познания от его объекта, у второго [Левинас 2000] характеризуют то, что лежит междумной и «другим» или абсолютным Другим, и оно-то и есть реальность.
Пояснение или дополнение, вносимое спекулятивным реализмом в эту картину мира, весьма существенно: отношение к объекту, чтобы быть реальным, не может быть ни этически свободным, ни этически же неизбежным; оно может быть только контингентным. Окончательный поворот от этической метафизики к реализму не только не исключает мифический когнитивный стиль, но, напротив, реабилитирует его после многих лет постмодернистской дискредитации. Это означает и поворот от социальной повестки дня к научно-философской, а также возврат к мышлению источника и субъекта, но без метафизики и, скорее, в неокантианском ключе. Из неокантианства вышла современная наука о языке, знаке, символе и мифе, но именно в силу своего происхождения она упустила главную особенность мифического: неокантианство видит культуру как труд [12], в то время как миф внетруден.
Важным следствием реалистического поворота должен быть также пересмотр дискурса идентичностей и прочих эссенциалистских концепций коллективности и возврат к персонализму: ни одна коллективная идентичность не может считаться более реальной, чем персональная, уже только потому, что коллектив менее реален, чем личность. Его неинструментальная составляющая меньше и менее очевидна, чем у личности, а также, отчасти вследствие этого, его конструирование требует большего труда. В отличие от персонализма начала XX века, как, например, философия Э. Мунье [Мунье 1999], сегодняшний поворот не обязательно должен быть основан на религиозной философии; он может быть встроен в реалистический поворот. Важным свойством того подхода к мифу, который я здесь предлагаю, служит его универсалистская и общегуманистическая направленность: он одинаково применим к религиозному и нерелигиозному мифотворчеству, к архаическим и современным типам дискурса; он выходит далеко за пределы любых социальных и политических повесток дня, приобретая черты всеобщей теории нарративной репрезентации реальности. Создание внетрудовой, внеинструментальной культурной теории мифа потребует специальных усилий. Здесь же я постараюсь вывести ее эмпирически из материала русско-израильской литературы.
В заключение этого краткого введения необходимо сделать несколько замечаний о методологии, применяемой в этом исследовании. Во-первых, мифология и мифотворчество, как коллективное, так и персональное, как социальное, так и литературное, рассматриваются в качестве составляющих интеллектуальной истории и истории идей. Универсальное,