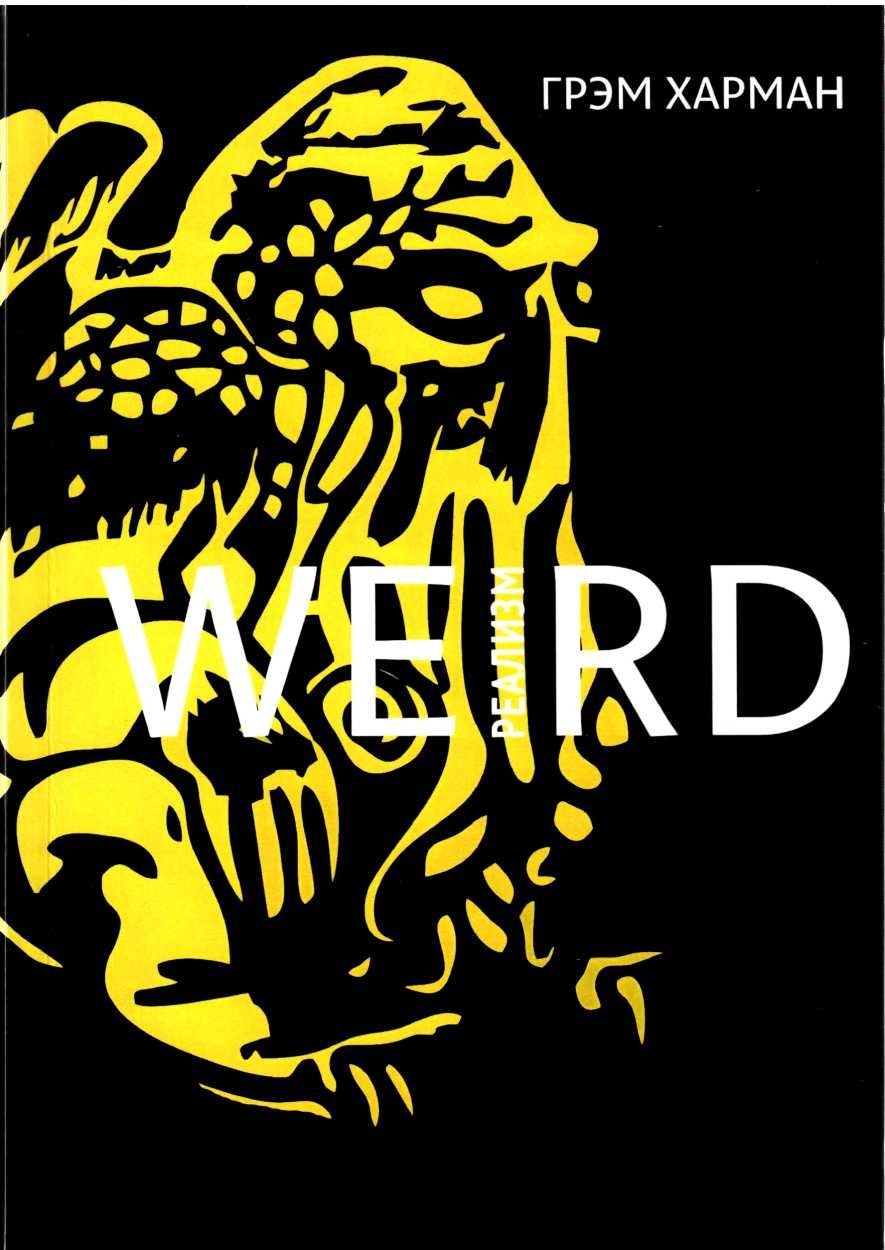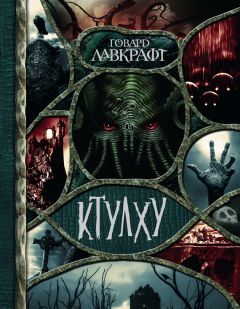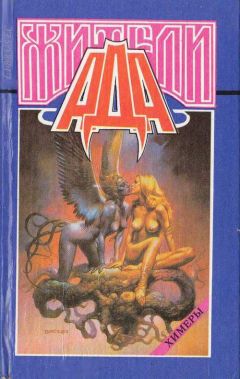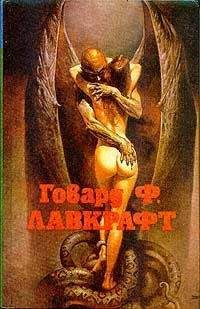темы, возникшие в ходе нашего обсуждения Лавкрафта? Мы видели, что Лавкрафт — это не просто бульварный писатель, он дистанцируется от низкопробной литературы при помощи двух разрывов, которые парализуют силы буквального языка. Во второй части мы привели многочисленные примеры, в которых Лавкрафт только
намекает на реальности, не поддающиеся описанию. Также были обнаружены примеры, обозначенные нами как разновидности
литературного кубизма (близкого по духу философии Гуссерля); в них нет аллюзий на вещи, превосходящие возможности языка. В этих случаях многочисленные странные или пугающие качества осязаемой вещи нагромождаются в таком количестве, что все эти грани уже невозможно аккуратно, без зазоров, соединить в единый объект; так у читателя создается представление о совершенно имманентном объекте, который тем не менее отделен от любой совокупности качеств. И кроме того, у нас есть немногочисленные случаи, в которых
и объект,
и его качества сопротивляются любому описанию, например, когда перед нами предстает «слепой бог-идиот Азатот, Вседержитель Всего, окруженный верной ордой безумных безликих танцоров и убаюканный тонким монотонным писком демонической флейты в лапах безымянного существа» (WH 664; ВД 199 —
пер. изм.). Безусловно, этот отрывок можно прочитать буквально: бог по имени Азатот действительно окружен ордой танцоров и, кроме того, слышны звуки флейты. Но, учитывая многочисленные ограничения, которые мешают буквальному прочтению этого пассажа (например, утверждение Лавкрафта в «Шепчущем из тьмы» [WD 464; ШТ 365] о том, что имя Азатот лишь милосердно скрывает за собой «чудовищный ядерный хаос»), я считаю, что, по-видимому, вещественные свойства, описанные в этой странной сцене, такие же намеки, как и хаос, который скрывается за именем Азатот. И наконец, у Лавкрафта есть случаи (обычно они связаны с провалом научных испытаний), когда хорошо известный и непосредственно доступный объект вроде метеорита или металлического узора обладает вполне реальными, но немыслимыми качествами. Эти четыре базовых напряжения в творчестве Лавкрафта точно соответствуют четырем напряжениям, описанным в философской дисциплине под названием «онтография» [101]. В этом отношении Лавкрафт оказывается писателем, специально предназначенным для объектно-ориентрованной философии, как Гёльдерлин — для философии Хайдеггера, а Малларме — для философии Деррида или Мейясу.
Такая четверичная онтография — ключевой, но не единственный аспект творчества Лавкрафта, связывающий его с объектно-ориентированной философией. Помимо этого, имеет значение момент тождества и различия комедии и трагедии. Во второй части мы неоднократно встречались с примерами, когда рассказчики Лавкрафта создают комедийный эффект в самых ужасающих сценах. Мы можем вспомнить тему, которую Сократ затрагивает в конце «Пира» Платона, и подумать над тем, как она относится к другим темам, обсуждаемым в книге. При этом многие из отрывков, приведенных во второй части, включают элементы стилистики Лавкрафта, не относящиеся к созданию аллюзий или кубистических эффектов, поэтому необходимо внимательно рассмотреть их функции и их возможную связь с «онтографией» Лавкрафта. Также следует добавить, что хотя сила внушения Лавкрафта повышает его писательскую действенность в жанре ужасов, это внушение может применяться в контекстах, где нет ничего ужасного. Поэтому нужно определить, какую роль играет тот факт, что автор работает в этом жанре, а не в каком-нибудь другом. И наконец, мы знаем, что даже в тех случаях, когда Лавкрафт вводит в повествование разрывы между объектами и качествами, он остается писателем и никоим образом не превращает свое произведение в метафизический трактат. Несмотря на то, что творчество Лавкрафта имеет большее значение для философии, чем могут предположить многие читатели, будет очевидным преувеличением называть его философом и очевидным абсурдом — одним из величайших философов XX века (хотя я бы рискнул назвать его одним из величайших писателей). В завершающей части книги мы должны связать все эти темы воедино, насколько это возможно.
Сначала следует более внимательно рассмотреть «онтографию» Лавкрафта, способ описания взаимодействия между объектами и их качествами. Это центральный момент как литературного стиля Лавкрафта, так и объектно-ориентированной философии. Мы не раз видели классический прием, когда сущности (entity) приписываются какие-нибудь свойства и в то же время нам сообщают, что она сопротивляется описанию посредством ее же свойств и наибольшее, что мы можем извлечь из этих характеристик, — безнадежно расплывчатое подобие. Самый яркий пример аллюзии такого рода — это, пожалуй, описание идола Ктулху: «Если я скажу, что в моем воображении, тоже несколько экстравагантном, возникли одновременно образы осьминога, дракона и пародии на человека, то, мне кажется, смогу передать дух этого создания. ...Именно общее впечатление от этой фигуры делало ее пугающе ужасной» (СС 169; ЗК 57). «Дух этого создания» и даже «общее впечатление» можно понимать как аллюзии на реальный объект, поскольку он никогда не оформляется в ощутимый чувственный объект, как это могло быть в случае, когда Ктулху оказался бы просто огромным осьминогом. Ситуация усугубляется тем, что в рассказе физически присутствует Ктулху, которого изображает идол. Чтобы не усложнять наш анализ сверх меры, давайте просто забудем о физическом Ктулху, который преследует корабль в Тихом океане: когда мы говорим «реальный объект», мы имеем в виду только «дух» или «общее впечатление» идола вне зависимости от их взаимосвязи с монстром. Мы называем произведение искусства или объект культа «реальным» объектом в том смысле, что его невозможно исчерпать совокупностью конкретно-определенных восприятий или пропозиций: в какой-то степени он всегда сопротивляется любому восприятию и любому анализу и никогда не исчерпывается ими. В этом отношении Ктулху ничем не отличается от молотка, стула, атома или человека.
Во всех этих случаях невозможен прямой контакт с реальным объектом. Например, в инструмент-анализе Хайдеггера сломанный молоток не выскакивает внезапно из темноты в сферу прямого доступа. Сломанный, или явленный, молоток скрывает в себе непознанные глубины даже тогда, когда лежит у нас перед глазами, и это очевидно для рассказчика Лавкрафта, который описывает идол Ктулху. Реальный объект ни при каких обстоятельствах не дан непосредственно. В этом отношении мы можем даже согласиться с аргументом идеалистов о том, что мысль о вещах самих по себе остается мыслью и, следовательно, не выходит за пределы, установленные законами мышления. Мы только не согласны с тем, что невозможен непрямой доступ к вещам самим по себе, поскольку его как раз и обеспечивает аллюзия, дающая указание на отсутствующую вещь.
Непрямой доступ обеспечивается тем, что в чувственном мире возникают искажения, производимые скрытым объектом: точно так же мы заключаем о существовании черной дыры по траекториям света и газов, окружающих ее центр. Обратите внимание, рассказчик, говоря о неуловимости идола, не просто прибегает к формулировкам вроде «никакая попытка не могла бы передать дух этого создания, поскольку именно общее впечатление от этой фигуры делало ее пугающе ужасной».