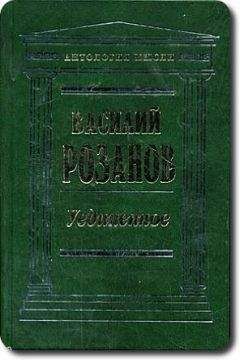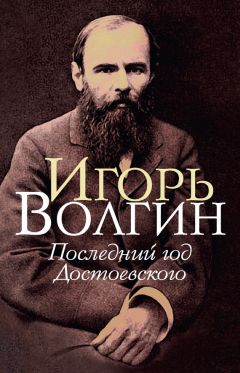обращаться к нему. Все определения и все точки зрения поглощаются диалогом, вовлекаются в его становление. Заочного слова, которое, не вмешиваясь во внутренний диалог героя, нейтрально и объективно строило бы его завершённый образ, Достоевский не знает. «Заочное» слово, подводящее окончательный итог личности, не входит в его замысел. Твёрдого, мёртвого, законченного, безответного, уже сказавшего своё последнее слово нет в мире Достоевского.
Самосознание героя у Достоевского сплошь диалогизовано: в каждом своём моменте оно повёрнуто вовне, напряжённо обращается к себе, к другому, к третьему. Вне этой живой обращенности к себе самому и к другим его нет и для себя самого. В этом смысле можно сказать, что человек у Достоевского есть субъект обращения. О нём нельзя говорить, — можно лишь обращаться к нему. Те «глубины души человеческой», изображение которых Достоевский считал главной задачей своего реализма «в высшем смысле», раскрываются только в напряжённом обращении. Овладеть внутренним человеком, увидеть и понять его нельзя, делая его объектом безучастного нейтрального анализа, нельзя овладеть им и путём слияния с ним, вчувствования в него. Нет, к нему можно подойти и его можно раскрыть — точнее, заставить его самого раскрыться — лишь путём общения с ним, диалогически. И изобразить внутреннего человека, как его понимал Достоевский, можно, лишь изображая общение его с другим. Только в общении, во взаимодействии человека с человеком раскрывается и «человек в человеке», как для других, так и для себя самого.
Вполне понятно, что в центре художественного мира Достоевского должен находиться диалог, притом диалог не как средство, а как самоцель. Диалог здесь не преддверие к действию, а само действие. Он и не средство раскрытия, обнаружения как бы уже готового характера человека; нет, здесь человек не только проявляет себя вовне, а впервые становится тем, что он есть, повторяем, — не только для других, но и для себя самого. Быть — значит общаться диалогически. Когда диалог кончается, все кончается. Поэтому диалог, в сущности, не может и не должен кончиться. В плане своего религиозно-утопического мировоззрения Достоевский переносит диалог в вечность, мысля её как вечное со-радование, со-любование, со-гласие. В плане романа это дано как незавершимость диалога, а первоначально — как дурная бесконечность его.
Все в романах Достоевского сходится к диалогу, к диалогическому противостоянию как к своему центру. Все — средство, диалог — цель. Один голос ничего не кончает и ничего не разрешает. Два голоса — минимум жизни, минимум бытия.
Потенциальная бесконечность диалога в замысле Достоевского уже сама по себе решает вопрос о том, что такой диалог не может быть сюжетным в строгом смысле этого слова, ибо сюжетный диалог так же необходимо стремится к концу, как и само сюжетное событие, моментом которого он, в сущности, является. Поэтому диалог у Достоевского, как мы уже говорили, всегда внесюжетен, то есть внутренне независим от сюжетного взаимоотношения говорящих, хотя, конечно, подготовляется сюжетом. Например, диалог Мышкина с Рогожиным — диалог «человека с человеком», а вовсе не диалог двух соперников, хотя именно соперничество и свело их друг с другом. Ядро диалога всегда внесюжетно, как бы ни был он сюжетно напряжён (например, диалог Аглаи с Настасьей Филипповной). Но зато оболочка диалога всегда глубоко сюжетна. Только в раннем творчестве Достоевского диалоги носили несколько абстрактный характер и не были вставлены в твёрдую сюжетную оправу.
Основная схема диалога у Достоевского очень проста: противостояние человека человеку, как противостояние «я» и «другого».
В раннем творчестве этот «другой» тоже носит несколько абстрактный характер: это — другой, как таковой. «Я-то один, а они все», — думал про себя в юности «человек из подполья». Но так, в сущности, он продолжает думать и в своей последующей жизни. Мир распадается для него на два стана: в одном — «я», в другом — «они», то есть все без исключения «другие», кто бы они ни были. Каждый человек существует для него прежде всего как «другой». И это определение человека непосредственно обусловливает и все его отношения к нему. Всех людей он приводит к одному знаменателю — «другой». Школьных товарищей, сослуживцев, слугу Аполлона, полюбившую его женщину и даже творца мирового строя, с которым он полемизирует, он подводит под эту категорию и прежде всего реагирует на них, как на «других» для себя.
Такая абстрактность определяется всем замыслом этого произведения. Жизнь героя из подполья лишена какого бы то ни было сюжета. Сюжетную жизнь, в которой есть друзья, братья, родители, жены, соперники, любимые женщины и т. д. и в которой он сам мог бы быть братом, сыном, мужем, он переживает только в мечтах. В его действительной жизни нет этих реальных человеческих категорий. Поэтому-то внутренние и внешние диалоги в этом произведении так абстрактны и классически чётки, что их можно сравнить только с диалогами у Расина. Бесконечность внешнего диалога выступает здесь с такою же математическою ясностью, как и бесконечность внутреннего диалога. Реальный «другой» может войти в мир «человека из подполья» лишь как тот «другой», с которым он уже ведёт свою безысходную внутреннюю полемику. Всякий реальный чужой голос неизбежно сливается с уже звучащим в ушах героя чужим голосом. И реальное слово «другого» также вовлекается в движение perpetuum mobile, как и все предвосхищаемые чужие реплики. Герой тиранически требует от него полного признания и утверждения себя, но в то же время не принимает этого признания и утверждения, ибо в нём он оказывается слабой, пассивной стороной: понятым, принятым, прощённым. Этого не может перенести его гордость.
«И слёз давешних, которых перед тобой я, как пристыженная баба, не мог удержать, никогда тебе не прощу! И того, в чем теперь тебе признаюсь, тоже никогда тебе не прощу!» — так кричит он во время своих признаний полюбившей его девушке. «Да понимаешь ли ты, как я теперь, высказав тебе это, тебя ненавидеть буду за то, что ты тут была и слушала? Ведь человек раз в жизни только так высказывается, да и то в истерике!.. Чего ж тебе ещё? Чего ж ты ещё, после всего этого, торчишь передо мной, мучаешь меня, не уходишь?» (IV, 237–238).
Но она не ушла. Случилось ещё хуже. Она поняла его и приняла таким, каков он есть. Её сострадания и приятия он не мог вынести.
«Пришло мне тоже в взбудораженную мою голову, что роли ведь теперь окончательно переменились, что героиня теперь она, а я точно такое же униженное и раздавленное создание, каким она была передо мною в ту ночь — четыре дня