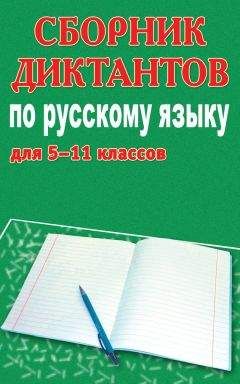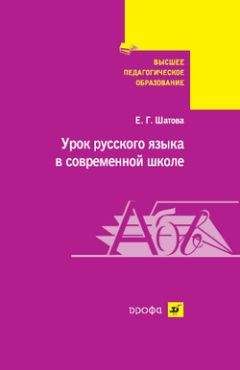Ознакомительная версия.
Распахнувший крылья удод похож на пестрый платок. Особенно наряден он на фоне синего неба. Не поскупилась природа, одарив птицу самыми яркими красками. Важно постукивает он длинным, слегка изогнутым клювом, потряхивает ярким, словно веер, хохолком на голове.
Голос удода мне приходилось слышать и раньше, но близко рассмотреть птицу не удавалось. Каждый день выслеживал я удода, пытался угадать, с какой стороны он прилетит. Его излюбленными местами были ветки дерева, забор, что окружал огород, или крыша дома. И сразу раздавалось таинственное «воп, воп, воп» или «уд-уд-уд…» Птица то поднимала голову, то опускала, будто говорила: «Здравствуйте!» Потом снова ровно три раза – «воп, воп, воп».
Но вот солнце скрывалось, показав раскаленный кончик желтого диска. И сразу замолкали птичьи голоса. На смену выходил хор лягушек. Из луж и канав доносилось кваканье.
Гроза ширилась и наступала на нас. Не успели мы оглянуться, как туча, почти не двигающаяся, казалось, с самого горизонта, неожиданно оказалась перед нами. Вот блеснула огненная нить, и густой смешанный лес, через который мы пробирались, мгновенно озаряется зловещим светом кроваво-красного пламени. Сразу же обиженно пророкотал гром, еще нерешительный, но как будто тревожный и угрожающий, и тотчас же по листьям забарабанили капли дождя.
Вряд ли знает грозу человек, не встречавшийся с нею в лесу. Мы бросились искать убежище, пока ливень не пустился вовсю. Но было уже поздно: дождь хлынул на нас бешеными, неукротимыми потоками. Оглушительно грохотал гром, а молнии, все время не перестававшие вспыхивать серебряными отблесками, только ослепляли. Лишь на какую-то долю секунды можно было рассмотреть почти непроходимые заросли, едва не затопленные водой, и крупные листья, обвешанные маслянистыми каплями.
Скоро мы поняли, что, несмотря на все наши старания, мы так и останемся совершенно не защищенными от дождя. Но вот небо медленно очищается от туч, и мы продолжаем идти по путаной тропинке, которая приводит нас на малоезженую дорогу.
Мы проходим мимо невысокой, но стройной лиственницы, вершина которой расщеплена, и видим не что иное, как обещанную нам избушку лесника. Приветливый старик в холстинной рубахе с несвойственной ему торопливостью разжигает печурку, ставит на стол топленое молоко, печенную в золе картошку, сушенные на солнце ягоды, предлагает ненадеванный тулупчик. Старик потчует нас на славу.
В продолжение целого дня дождь лил как из ведра, но впоследствии погода прояснилась. Послеполуденное солнце безмятежно засияло, и наступила ниспосланная благодать. Начинался чудесный безветренный вечер.
Семка – белый хомяк с черными полукруглыми ушами. Его привезли в стеклянной банке из Казани подруги моей старшей сестры. Он беспрестанно кружился в банке, царапал гладкие стены и искал выход из заточения.
На следующий день папа сколотил удобную клетку. Я постелила внутри постель из ваты, поставила посуду с крупами, хлебными крошками. Семка переселился в клетку и тут же приступил к наведению собственного порядка. Собрал в один угол постель, в другой угол перетаскал все запасы пищи, сложил их в кучу и прикрыл кусками ваты и газет.
Первые дни, когда к клетке подходил кто-нибудь, Семка садился на задние лапы и замирал, а потом беспокойно ворочал головой. Несколько раз он кусал мне пальцы, когда я меняла постель, молоко и пищу в клетке.
Но потом Семка привык, без страха залезал мне на руку и замирал в ожидании, когда я его поглажу, пощекочу. Я стала выпускать его на прогулку, но прежде заделала как следует все щели, отверстия у плинтусов пола в ванной, кухне. Семка все равно догадывался, что здесь имеются лазейки, и старался вытащить оттуда что-нибудь зубами, передними лапами. Семка очень часто подходил к балконной двери, пытался открыть ее, но не хватало силенок. Часто кружился у входной двери квартиры, суетился, бегал, фыркал, видимо, что-то его волновало, беспокоило. Он стал понимать ласку, реагировать на обращение: иногда выбежит из-под дивана, встанет на задние лапы и замрет, ожидая повторения своего имени. А иногда, услышав, что его зовут, убежит обратно.
Однажды в жаркий день я вынесла клетку на балкон, чтобы Семка подышал воздухом, погрелся на солнце. После обеда на небе появились темные свинцовые тучи и пошел град. Я в это время была у подруги, пришлось немедленно бежать домой.
Семка лежал в клетке без движения, мокрый и холодный, под грудой еще не растаявших льдинок. Я взяла его в руки, стала гладить, массировать и греть. Вскоре хомяк открыл глаза, пошевелил усами и, свернувшись калачиком, уснул на подушке.
Однажды он затерялся в квартире, словно сквозь пол провалился. Все начали думать, что хомяку удалось сбежать, но тут мама услышала, что у двери квартиры кто-то шуршит, царапается. Я подбежала, но никого не обнаружила. Вдруг сама услышала шорох и возню в папином кирзовом сапоге. Проказник Семка забрался по голенищу, упал в сапог, а вылезти самостоятельно не мог.
Стали замечать, что Семка без труда карабкается по плотным гобеленовым занавескам. Его всегда снимали оттуда. Но однажды никто не заметил, как он забрался на самый верх, только услышали, как он шлепнулся с двухметровой высоты. Хомяк лежал без признаков жизни. Я чуть не расплакалась, бережно взяла его на руки, и вдруг Семка соскочил, напугав меня, и убежал. Мы все облегченно вздохнули.
В другой раз мама находилась на кухне, и там же под ногами бегал Семка. Я занималась уроками музыки. Мама закончила свои дела, захлопнула дверки кухонного стола, где хранились продукты. Вдруг оттуда раздался стук, и мама позвала меня. Я открыла дверцу и позвала Семку. Сначала показалась макаронина, а потом хомяк. Он сунул ее в свой защечный мешок, но поместилась макаронина туда лишь наполовину. Другая половина, словно ствол пушки, торчала наружу. Вот уж мы смеялись!
Громадный порт, один из самых больших портов мира, всегда бывал переполнен судами. В него заходили темно-ржавые гиганты-броненосцы. Весной и осенью здесь развевались сотни флагов со всех концов земного шара и с утра до вечера раздавались команды на всевозможных языках. От судов к бесчисленным складам туда и обратно по колеблющимся сходням сновали грузчики: русские босяки, оборванные, почти оголенные, смуглые турки в широких до колен, но обтянутых вокруг голени шароварах, коренастые мускулистые персы, с волоса ми и ногтями, окрашенными хной в огненно-рыжий цвет. Часто в порт заходили прелестные издали двух– или трехмачтовые итальянские шхуны. Здесь месяцами раскачивались в грязно-зеленой портовой воде маленькие суденышки со странной раскраской и причудливым орнаментом. Сюда же изредка заплывали и какие-то диковинные узкие суда, под черными просмоленными парусами, с грязной тряпкой вместо флага. Матросы такого судна – совершенно голые, бронзовые, маленькие люди, – издавая гортанные звуки, с непостижимой быстротой убирали рваные паруса, и мгновенно грязное таинственное судно делалось как мертвое. И так же загадочно, темной ночью, не зажигая огней, оно беззвучно исчезало из порта.
Окрестные и дальние рыбаки свозили в город рыбу: весною – мелкую камсу, миллионами наполнявшую доверху их баркасы, летом – уродливую камбалу, осенью – макрель, а зимой – десяти– и двадцатипудовую белугу, выловленную часто с большой опасностью для жизни.
Все эти люди – матросы разных наций, рыбаки, веселые юнги, лодочники, грузчики, контрабандисты, – все они были молоды, здоровы, пропитаны ядреным запахом моря и рыбы, знали тяжесть труда, любили прелесть и ужас ежедневного риска, а на суше предавались с наслаждением бешеному разгулу, пьянству и дракам. По вечерам огни большого города, взбегавшие высоко наверх, манили их, как волшебные блестящие глаза, всегда обещая что-то новое, радостное, еще не испытанное и всегда обманывая.
(По А. Куприну)
Лет с двенадцати я стал один ходить на Ворю, где находилась Истоминская мельница. Тогда Воря, воспетая еще Аксаковым, была чистой и рыбной. Без хорошего улова с нее я не возвращался. Обычно приносил корзинку окуней, плотвы, подлещиков, а то и две-три щуки.
Мне очень нравилась и сама дорога к реке: каждый раз, идя по ней, я узнавал или находил что-то интересное, открывал для себя что-то новое.
Выйдя на задворки, я проходил луговиной, мимо небольших прудов, образовавшихся после того, как здесь пробовали добывать торф и оставили несколько котлованов, которые потом наполнились водой. Здесь я иногда отлавливал карасиков, чтобы использовать их на Воре как живцов. Потом заходил в лиственный молодой лес. По дороге успевал найти несколько подосиновиков и подберезовиков. Пока я их искал, вспугивал тетеревиный выводок. Птицы с тяжелым шумом разлетались по кустам.
Выйдя на просеку, проходил по крупному смешанному лесу километра два. На этой просеке росла трава-мурава, всегда свежая, зеленая, мягкая. По ней так приятно было шагать. А потом я сворачивал влево, на другую просеку. Здесь рядом находилось небольшое болото, на котором, кроме клюквы и голубики, росла морошка. Мне долго не верили, что менее чем в шестидесяти километрах от Москвы может расти такая северная ягода. Морошка теперь встречается, и то редко, на севере Калининской и Вологодской областей. А тут она – рядом со столицей. Но я доказал, что она есть в этих местах, когда привез в Москву сначала ее незрелые красные ягоды, напоминающие малину, а потом – зрелые, янтарные.
Ознакомительная версия.