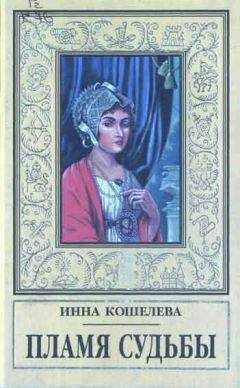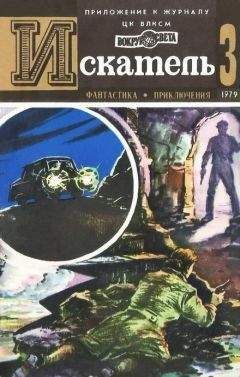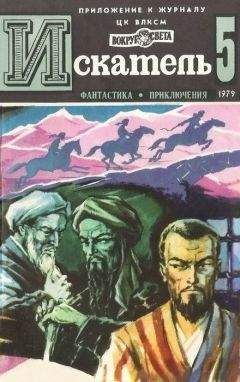манера — не говорить со старшими откровенно? Настаиваю. Нет, ты скажи, как относишься? Может быть, тебе этот тип понравился, который учительницу обманул? Ему, кстати, все твои ансамбли тоже по душе. И вдруг в ответ: «Ну хотя бы и так. Хотя бы и понравился. Запретишь, что ли?»
Муж был обижен и еще смущен, как бывает смущен тот, кто неожиданно терпит поражение там, где рассчитывал на твердую, без помех победу.
Александра Федоровна только вздохнула:
— Ох, все ты не так, Коля...
Подумал-подумал и согласился:
— А вообще, ты права: не так.
Думая об этом неудавшемся выходе сына и мужа в кино, Александра Федоровна все больше склонялась к мысли, что Сашку фильм пронял, взволновал, и он не хотел показать, насколько сильно он его задел. Почему не захотел?
Подростковый возраст чаще называют возрастом неоткровенности. Ребята почему-то ведут себя, как говорится, наоборот, скрывают свои чувства. То есть не «почему-то», а оттого, что не научились еще взрослому спокойному общению, не всегда просто умеют выразить свои чувства, да и сами в них не могут разобраться, ведь чувства эти остры, ярки, сильны. С друзьями-одногодками после фильма Сашка, возможно, и говорил бы об увиденном, а с родителями — нет. Дома он принял в последний год позу взрослости, независимости, неуязвимости — этакий «супермен», неподвластный «детским» (как ему кажется) чувствам жалости, нежности, взволнованной растроганности. И вдруг очутиться перед отцом беззащитным и безоружным после фильма. После «какого-то» фильма! Выдать свою переполненность мыслями, эмоциями. Нет! Лучше «закрыться», нагрубить, сделать вид, что он непробиваем.
Весь этот психологический рисунок основывался на ее собственных предположениях и воспоминаниях. Когда-то давно и она вела себя примерно также, как сын: чем больше нравился фильм, тем старательнее скрывала от мамы. Ведь признаться в том, что фильм ошеломил,— значит сейчас, сию минуту пустить маму в мир собственных переживаний. А она по натуре не была открытой и к подобным переживаниям ее надо было очень старательно готовить. К тому же, думала Александра Федоровна, в вопросе мужа наверняка были требовательные нотки — ответь, мол, и все. Сейчас же, сию минуту ответь. И назидательности в его интонации хоть отбавляй. Искусство же — вольное поле общения, оно касается таких глубин человеческой психики, таких тонких сторон человеческой натуры, что любое насилие здесь неуместно, вредно. Только доверие, предполагаемое заранее равенство беседующих...
И еще одного, может быть, муж не учел. Чтобы переварить увиденное, услышанное, прочитанное, всегда нужно время. Она лично тоже не любит вопросов «ну, как?» сразу после спектакля, фильма. «Не знаю,— отвечала. Сейчас я просто взволнована, просто в раздумьях. Завтра утром узнаю, увижу, почувствую, что осталось во мне». А мальчик, скорее всего, был взволнован, возможно, в смятении чувств. Помолчать с ним рядом, дождаться его первых слов, все тех же «ну, как?». Уверена и ему захотелось бы произнести их.
Кстати, это, может быть, самое важное — помочь подростку разговориться о том, что видел или читал. Для этого и мужу и ей не хватает умения слушать. Муж слишком категоричен, она слишком любит говорить об искусстве сама. Подумать только: у нее ни разу не возникло желания узнать не только мнение Саши, но его трактовку того или иного произведения литературы, спектакля, фильма. Всегда объясняла ему, что к чему, и не заметила, как сын стал взрослым. А если бы он знал, что и его суждения ждут, что и его мысль может открыть родителям интересное, новое... Сам по себе этот факт дает активную установку, установку на работу души и ума. Как она не заметила, что Саше давно не подходит роль слушателя «снизу вверх»? Что она его тяготит, раздражает, делает инертным.
А разве ему нечего сказать им, родителям? В былые времена он высказывался довольно охотно и подчас интересно. Вот бы и подчеркнуть это тогда, вот и не побояться преувеличить значение того, что он говорил. Поверил бы в себя, в уникальность, неповторимость и необходимость своих суждений — так важно осознавать себя личностью! Да, плохо, что они с мужем не сумели своевременно включить мальчика в общесемейный процесс осмысления жизни и искусства (тоже жизнь в конечном итоге). Сами решали все хозяйственные вопросы, сами переживали за героев Валентина Распутина и Виктора Астафьева, а он оказался в стороне, их мальчик, такой любимый и такой... одинокий в своей пустыне отрочества. Как быстро закрепляется дурацкая роль «бесчувственного», ей показалось, что она становится второй натурой. Закрытость, замкнутость, это мальчишеское «зачем говорить?» того и гляди обернется тревожным, обидным «нечего сказать».
Ведь в театр на Бронную они с Сашей пошли словно бы для того, чтобы она могла понять, как много упущено, как трудно будет «расшевелить» любимого сына, вернуть ему обостренную чуткость восприятия и жизни и искусства, которая отличала его совсем недавно.
И, подслушав ее мысли, продолжил муж:
— Как быстро дети меняются. И не успеешь заметить порой перемены — после скажется...
* * *
Так или примерно так мог проходить разговор — тревогами своими и наблюдениями Сашины родители делились и со мной.
...Вторую проблему для размышлений мне подсказывает собственное мое детство.
Я часто думаю о ней. Часто вспоминаю. И всегда с горечью и болью. Затеяв книжку о роли искусства в жизни растущего человека, я не могла пройти мимо Клариссы — в ее-то жизни искусство всегда было на первом месте. Только особо хорошего из этого не вышло...
...Я знаю ее давно, еще со школы. И всегда она была неистребимо нелепа. Вся, начиная с имени. Существует ли такое имя «Кларисса» и есть ли еще на свете Клариссы, кроме нашей?
И скорее всего даже в имени своем она была единственна и неповторима. И отчество у нее было Семеновна. Кларисса Семеновна. Когда наша классная руководительница заполняла журнал или иные документы, мы все ждали этого словосочетания, чтобы покатиться со смеху.
Некрасива ли она была? Красива? Не знаю. Прекрасные серые глаза — лучистые, умные выделяли ее из многих, но вечно приоткрытые губы сильно портили. И общее выражение лица было чаще всего отсутствующим. Высокая, стройная, но ходила странной, «ныряющей» походкой. И одевалась она дурно. Если бы просто немодно или небрежно! Мы все были не от Диора! Но весной она могла нацепить на себя белую панамку, которую никто не носит со времен наших бабушек. И эти белые носочки — где только она их покупала?— при первых теплых приветах весеннего солнца...
Вы замечаете, рассказывая о