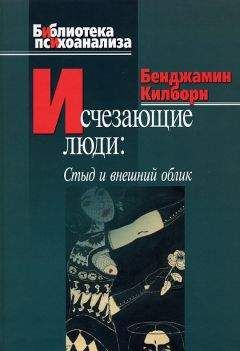Ознакомительная версия.
Когда боги пошли посмеяться над Афродитой и Ареем, запутавшимися и пойманными на месте преступления в сети Гефеста, богини остались дома aidoi, «от стыда». Используя слово aidos, Гомер описывает замешательство Навсикаи при мысли о том, чтобы сообщить отцу о своем желании выйти замуж, отказ Пенелопы появиться перед женихами, а также стыдливость Фетиды перед тем, как отправиться к богам. Подобным же образом Одиссей испытывает смущение или стыд от того, что феакийцы видят его плачущим; Исократ говорит, что в прежние времена, если молодым людям приходилось идти через агору (место собраний), они шли «с великим стыдом и смущением»[91]. В «Илиаде» стыдливый и ищущий славы Гектор боится критики со стороны тех, кто обладает более низким статусом, но этот страх заставляет его чувствовать еще больший стыд.
Стыд и чихание: анализ марка
В рамках социальной теории веками противопоставлялись социальные чувства (например, стыд) и индивидуальные чувства (например, вина и эгоизм). Социологи (например, Scheff, Retzinger, 1991; а также Tisseron, 1992) особо подчеркивали, насколько «социально» чувство стыда, связанное с отвержением, и насколько мощной движущей силой может быть остракизм.
Рассказывая во время своего анализа об ощущении, что его всю жизнь отовсюду выгоняют, Марк задумчиво рассуждал о том, как говорят в Голливуде. «“Ты больше никогда не пообедаешь в этом городе”. Ты пролетаешь. Это случалось со мной снова и снова. Он усложняет нам жизнь. Мы накажем его: станем игнорировать, отвергать и прогоним его». Вслед за этим Марк чихает.
Что выражает чихание, и как оно может быть понято? В данном случае чихание выражает конфликт между чувством унижения и ощущением, что тебя прогоняют, с одной стороны, и гневом, который проецирует Марк на гонителей, с другой, поскольку в гневе он опасен (т. е. силен). Для него конфликты, связанные с потенцией и силой, слишком пугающие, чтобы их можно было выдержать: они должны быть изгнаны до того, как достигнут сознания.
«Я чихнул, потому что я действительно мог сделать это, и моя мать была бы счастлива. То, что меня сдерживает, это гнев. Это относится к тому, что Вы назвали «изгибом» в моем воображении. Что-то застревает у меня в горле. Слишком много гнева. Гнева на то, что у меня что-то отбирают. Так происходит на самом деле, или это такой замороченный взгляд на вещи и такое чувство, что у меня всегда все отбирают?»
Задавая этот вопрос, он задумывается о своих привычных переживаниях, смысл которых он до сих пор он не имел возможности исследовать. Если окружающие совсем не такие, как он думает, – могущественные, скверные и виновные в ощущении им того, что его прогоняют, – тогда он не уверен в их подлинной сущности и, следовательно, в себе самом.
«Я чувствую, что я плохой и что я должен наказать ту часть, которая является плохой, тем, что абсолютно не имею с ней дела. Моя жена говорит, что я не знаю, кто я такой на самом деле. Она права. Плохой человек, с которым я не хочу иметь ничего общего. Разные части меня все разъединены и разделены. Я как укротитель с хлыстом на арене цирка стараюсь удержать все эти части под контролем. Они все воюют между собой. Я пытаюсь поставить на колени всех этих личностей, чтобы им было слишком страшно что-либо предпринять. Вот удачная аналогия. Огромный лев, который мог бы легко, ох, как легко, убить укротителя».
Понимая, что в его фантазии укротителем могу быть я, я отметил, что, возможно, он чувствует, что ни одна из его частей не может получить превосходства над остальными, не прибегая к тирании. Он рассчитывает на террор и порабощение (т. е. на кнут укротителя) и на такие могущественные фигуры, как его отец, в том, чтобы совместить несовместимые части. В ответ на это вмешательство он рассказал о своих разных частях.
«Во мне постоянно существует это невероятное разделение. Это заставляет людей относиться ко мне с недоверием. Возможно, только не Вас. Нельзя сказать наверняка. Никогда не знаешь, которая из моих личностей станет проблемой сегодня: иногда я чувствую себя злым, безнадежным, подавленным, обреченным на провал, ужасно чувствительным, никчемным недоразумением – и ничего не могу с этим поделать. А иногда я думаю, что могу справиться, что обладаю невероятной силой».
Сказав вслух о чувстве всемогущества, Марк заметно встревожился. «Я ужаснулся, что этот контроль не настоящий. Но он настоящий для меня. Возможно, Вам это покажется жалким или безумным». Всемогущий контроль должен быть настоящим для него, иначе он оказывается безнадежно увязнувшим в стыде, гневе и тревоге. Являются ли фантазии о всемогуществе реакцией на стыд и унижение, которые он чувствует, или стыд отчасти возникает из разницы между этими фантазиями и жалкой реальностью – это, на самом деле, не имеет значения, так как они подпитывают друг друга. Я думаю, в фокусе клинической работы должны быть трудности, которые испытывает пациент, пытаясь понять, что относится к реальности, а что к фантазии, и то, насколько постыдны для него эти трудности. Используя понятия Эдипова конфликта, можно сказать, что если я бросаю вызов его чувству реальности, пытаясь исследовать стыд, связанный с незнанием, что именно является для него настоящим, это порождает сокрушающее чувство эдипального поражения. Таким образом, наша задача – позволить ему почувствовать дыру в бумажных небесах для того, чтобы он мог лучше понять иллюзию всемогущества и реальность как своих ограничений, так и своих возможностей.
Обман, преступление и спасение при помощи еще большего обмана
Подобная неуверенность в том, что именно является настоящим, периоды стыда и страха быть выброшенным, вслед за которыми возникает гнев, а затем вина, вносят свой вклад в неудавшиеся попытки исправления ситуации с помощью еще большего, всепоглощающего обмана. Чтобы от индивидуальных конфликтов Марка вновь вернуться к Пиранделло и социальному контексту, уместно вспомнить структуру пьес Пиранделло: «центр для страдающих и периферия для любопытствующих – вот образец сицилийской деревни»[92]. Драма страдающих разворачивается перед толпой сицилийских крестьян (и их количество удваивается благодаря публике, т. е. нам), порождая едкий стыд, образовавшийся вокруг страха быть исключенным и не допущенным, ответом на который становится «обман, преступление и спасение при помощи еще большего обмана»[93].
Как в рассказе, так и в пьесе Пиранделло «Это так (если вам так кажется)» сицилийские горожане сначала узнают от сеньоры Фролы, что ее зять сошел с ума и бредит, а затем от зятя, сеньора
Понзы, что его теща совершенно свихнулась. Для горожан становится невозможным узнать, кто из них говорит правду. Читатели, зрители и горожане одинаково знают так мало и о Фроле, и о Пон-зе, что вынуждены видеть каждого из них глазами другого. Каждый наблюдатель обладает собственным набором впечатлений; каждый представляет себя в глазах других, для которых он может быть «иным». Таким образом, невозможно установить объективную истину, да и имеет ли это такое уж большое значение, когда в изобилии присутствуют различные воображаемые образы[94].
Конечно, было бы логично, если бы кто-нибудь смог подсказать мысль использовать городские регистрационные данные, чтобы решить вопрос. И на самом деле, Лаудиси вносит такое предложение, но сразу же выбрасывает эту идею из головы. «Лично я не дам и ломаного гроша за документы; по-моему, правда содержится не в них, а в людской памяти…»[95] Более того, попытки горожан понять претензии Фролы и Понзы ведут только к большему разочарованию и неразберихе. Никто не может оставить вопрос открытым. Все компульсивно требуют какого-либо заключения. Лаудиси высказывает предположение, что пропавшая – «это фантом второй жены, если сеньора Фрола права. Это фантом дочери, если сеньор Понза прав». И он добавляет: «И остается понять: та, что является фантомом и для него и для нее – действительно ли является человеком по собственному разумению?» Это замечание возвращает нас к наблюдениям Сэма, которому другие люди кажутся столь нереальными, что он не может представить себе, чтобы кто-то относился к нему как к настоящему.
Когда в конце пьесы Пиранделло пропавшая действительно появляется в лице сеньоры Понза, все предполагают, что загадка наконец-то может быть разрешена[96]. Вместо этого появившаяся героиня только еще раз подтверждает тему пьесы: она, которая является никем для самой себя, может быть абсолютно кем угодно – или совершенно никем – для окружающих. «Я дочь сеньоры Фролы… и вторая жена сеньора Понзы… а для себя самой я никто… я та, кем, как вы полагаете, я являюсь»[97]. Тогда, косвенно, желание жителей Валданы верить как Понзе, так и Фроле (каждый из которых уверяет, что другой сошел с ума) ведет к неразрешимой дилемме: ни тот ни другой не может быть признан лживым или сумасшедшим. Пропавшая, сеньора Понза, являясь Никем для самой себя, становится организующим принципом пьесы, поскольку она может быть абсолютно Кем угодно.
Ознакомительная версия.