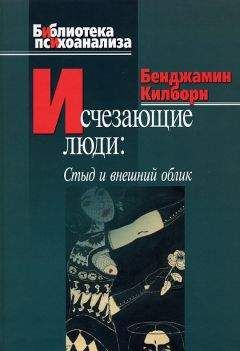Ознакомительная версия.
Например, подумайте над побочной сюжетной линией романа Луиджи Пиранделло «Записки Серафино Губбио, кинооператора, или Съемка». Главный герой, кинооператор, который, как мы понимаем, далее по ходу действия романа должен будет снимать льва, встречает пьяного скрипача, никогда не играющего на своей скрипке и всегда держащего ее завернутой в лохмотья. Когда же скрипача просят показать скрипку, то он вытаскивает ее из свертка и держит «со стыдом инвалида, демонстрирующего свою покалеченную конечность»[127]. Мы сразу же узнаем, что он относится к скрипке так, будто бы смертельно ее стыдится, как если бы она была покалеченной конечностью, чудовищным изъяном. Рассказчик истории о скрипаче, некий Симоне Пау, замечает стыд скрипача и говорит ему: «Убери свой инструмент. Я знаю, что тебе будет больно, если ты не спрячешь скрипку, пока я буду рассказывать».
Мы узнаем, что скрипач раньше играл только тогда, когда был пьян. И чем больше он напивался, тем больше он играл ко всеобщему удовольствию. Однако чем больше он играл, тем больше он пил и тем больше денег тратил. Так что после каждого из таких музыкальных вечеров он был вынужден закладывать свою скрипку, чтобы заплатить за выпивку. После чего ему приходилось работать, чтобы выкупить скрипку, и весь этот круг, состоящий из стыда, бессилия и поражения, повторялся снова и снова. Продолжалось это до тех пор, пока кто-то не предложил скрипачу откликнуться на объявление в газете, приглашающее на работу скрипача, чтобы аккомпанировать пианисту. Он пошел на прослушивание и там узнал, что аккомпанировать нужно будет механическому пианино. Скрипач был потрясен так, что не мог больше смотреть на свою скрипку, и стал прятать ее, заворачивая в кусок материи.
Далее в романе безымянный скрипач снова появляется, чтобы, к удовольствию зевак, играть для льва, перед клеткой которого собралась толпа в ожидании зрелища. Лев рычал и рыл лапой землю. «Играй! – крикнул ему Симоне. – Не бойся, играй! Он тебя поймет!» В ответ на уверение в том, что его могут понять, скрипач преодолевает свой стыд. Теперь послушаем Пиранделло.
«После этого скрипач, словно невероятным усилием освобождаясь от одержимости, поднял голову, встряхнув ею, сбросил свою помятую шляпу на землю, провел рукой по длинным растрепанным волосам и вытащил скрипку из старого зеленого куска байковой материи, кинув его на свою шляпу.
Пока скрипач настраивал скрипку, из толпы рабочих, стоящих позади нас, раздался свист, за которым последовал смех и комментарии. Но молчание воцарилось сразу же, как только он начал играть, сначала немного несмело, медленно, словно звук его инструмента, который он так давно не слышал, причинял ему боль. Затем, внезапно, преодолевая неуверенность и, возможно, мучительную дрожь, он несколько раз твердо коснулся струн смычком. За этим последовал своего рода стон, полный гнева, который постоянно нарастал, становясь все громче и настойчивее, издавая странные и грубые ноты, из клубка которых выделилась, чтобы продлиться, одна, похожая на вздох, который плачущий пытается сделать между всхлипываниями. Наконец эта нота раскрылась, заполняя собой все, вырвалась из плена, выливаясь в мелодию – ясную, сладкую, сильную, трепещущую и полную безграничной боли, и затем глубокие чувства захлестнули всех нас, а Симоне Пау заставили расплакаться. Подняв руки, он дал знак всем молчать, ничем не выдавая своего восхищения, чтобы в тишине этот странный и восхитительный мот и транжира мог услышать голос своей души.
Это длилось недолго. Он опустил руки, как будто устал, вместе со скрипкой, поклонился, обратив к нам свое преображенное, мокрое от слез лицо, и сказал: “Вот…”»[128]
Что именно в происшедшем помогло скрипачу избавиться от комплексов? Он осмеливается играть лишь тогда, когда чувствует, что его игра может оказать определенное воздействие. И, конечно же, здесь присутствует поразительный дополнительный компонент – лев. Скрипач не просто играет для публики, он играет для дикого и опасного животного. Это означает, что «пьяный» круг позорного бессилия, который выражался в закладывании скрипки, и в зарабатывании денег, чтобы снова ее выкупить, своего рода злосчастное эдипальное поражение, в котором он постоянно был унижен и чувствовал себя никчемным и презренным, может быть разорван. Теперь он не пьяный, никчемный скрипач, но повелитель музыки, настолько сильной, что она способна укрощать львов и доводить публику до слез.
Эта динамика, как мне кажется, является неотъемлемой частью всех художественных достижений и, возможно, успешного близкого общения. На мой взгляд, любопытно то, что авторы, описывающие тревогу предъявления себя, недостаточно оценивали в качестве мотивации этой тревоги унижение и страх изоляции, стыд сделать очевидными собственные фантазии о всемогуществе, которые могут оказаться ужасно неадекватными и пустыми, а также страх крайней беспомощности и унижения. Возможно, мы думаем, что осознаем реальность опасности оказаться на виду, и потому унижение становится «естественным» следствием, как вырванные с корнем деревья, остающиеся после урагана. Мы считаем, что люди искусства хотят славы, и потому они выходят на публику. Однако все не так просто. Когда Стивен Спендер спросил Одена о том, хорошим ли поэтом он (Спендер) является, то Оден бесстрастно ответил: «Конечно, потому что ты чрезвычайно одарен талантом быть униженным. Искусство рождается из унижения»[129].
Эта динамика унижения и внешнего облика добавляет исполнителям не только тревоги, но также и физических страданий. Мне доводилось видеть ряд художников и музыкантов, у которых по мере взлета их карьеры появлялись физические симптомы[130]. Один из моих пациентов, пианист, на самом первом сеансе пожаловался на подрывающую силы боль в запястье, которая вынудила его бросить занятия музыкой в качестве исполнителя. Предварительное аналитическое исследование показало жестокую эдипальную борьбу с заставляющим его заниматься отцом, который не присутствовал в семье в период раннего подросткового возраста ребенка. У пациента развились глубоко засевшие страхи эдипального поражения и унижения, вместе со всеми ядовитыми «дарами» эдипальной победы: в раннем подростковом возрасте он остался наедине со своей матерью. Затем, в позднем подростковом возрасте, когда он достиг значительных успехов, намного превзойдя собственного отца, у него начало болеть запястье, и он был вынужден оставить занятия фортепиано. Одновременно эта динамика эдипального поражения и унижения разыгрывалась и в отношениях с женщинами: с каждой из своих девушек он был «хорошим парнем», однако у них не было сексуальных отношений. Он жил со многими женщинами, к которым испытывал сильное физическое влечение, при этом всегда ощущая, что прикоснуться к ним было бы недопустимо. Фактически, он постоянно убеждал их, что он их не тронет, и с ним они всегда будут в безопасности. В результате возникало разочарование, гнев и истощающее унижение[131].
Несоответствие между тем, каким человек себя видит, и тем, каким он себя чувствует или представляет, как он выглядит со стороны, между тем, каким он хочет быть, и каким, как он боится, он является, вызывает и сознательные, и бессознательные попытки контролировать свой внешний вид. Актер развивает в себе такой контроль, а музыкальный исполнитель полагается на свое техническое и физическое владение инструментом. Однако когда тело противится, или когда музыкальные успехи кажутся неудовлетворительными, исполнитель часто становится жертвой граничащего с паникой страха перед исчезновением[132].
Будь то актеры, писатели, музыканты или художники, в творческой работе человек никогда не доверяет своей способности найти дорогу назад из мира фантазий, и в этом заложен ужасный страх, стыд и унижение перед отвержением, изоляцией и изгнанием. В свете этого интересным является не то, что некоторые исполнители и художники страдают от страха публичных выступлений, а то, что у некоторых из них его нет. Например, у танцоров и актеров, появляющихся на сцене обнаженными, развивается, как я склонен это называть, свод воображаемой внутренней авансцены, который в их фантазии обрамляет представление о том, как они выглядят со стороны, и защищает их от переживания беззащитности и уничтожения. Когда они ставят свое техническое мастерство на службу всесильным, эксгибиционистским желаниям, то становятся очень уязвимыми перед тревогой представления, а их защита – очень хрупкой. Когда же, напротив, они ухитряются ухватиться за границу между реальностью и фантазией, одновременно давая себе волю, когда они могут использовать свое воображение и свою сущность для того, чтобы те «вели» их технику исполнения, тогда они могут постичь суть своего проявления и творчески фантазировать о том, как они выглядят со стороны.
Ознакомительная версия.