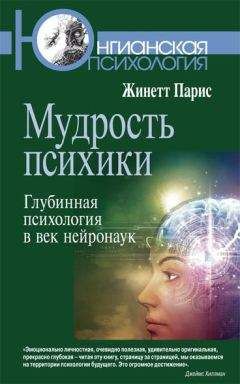Ознакомительная версия.
Эта женщина очень мало говорила с сыном как мать с ребенком; вместо этого она использовала тон товарища по путешествию. Она не настаивала на том, что мальчик находится на ее ответственности; вместо этого она указывала ему на возможности, которые открыты перед ним, если только он захочет ими воспользоваться. Всякий раз, когда кто-то выражает потребность или плачет от боли, возникает соблазн принять на себя роль Великой Матери и дать человеку поддержку, которой ему не хватает. Материнский рефлекс – естественное явление с теми, кого мы любим. Однако опытный терапевт видит также и теневую сторону материнской роли и чувствует, когда время Великой Матери прошло. Послание «Иди ко мне, мой маленький» содержит в себе и другое: у меня есть сила и власть, которых нет у тебя, я забочусь о тебе, но берегись, потому что я контролирую твое счастье. Общение с детьми в философском ключе, напротив, учит их брать ответственность на себя. Это инициация в мир, где правит отцовский принцип.
Кем вы хотите быть в этой игре? Многие видеоигры начинаются с того, что игрокам предлагается выбрать себе идентичность. Глубинный психологический анализ начинается с похожих вопросов. Чтобы ощущать себя участником жизненной игры, человек выясняет, как она называется. Какие могут возникнуть препятствия? Кто кому угрожает? Кто мои враги, а кто – союзники? Какие у меня инструменты, средства, возможности? Что определяет победу и когда игра действительно окончена? На протяжении большей части истории человечества целью игры было физическое выживание; в наши дни толпы несчастных все чаще страдают от депрессии, тревоги, суицидальных настроений и психосоматических заболеваний. Но есть и игра в героя, где самое главное – обнаружить врага и сразиться с ним.
Пока лишениями было принято считать голод, холод, жестокость и короткую продолжительность жизни, психосоматическим болезням уделялось мало внимания. В Европе в Средние века выживал один ребенок из трех. Эпидемия могла внезапно унести жизни двух третей населения деревни. Инфицированные раны почти всегда приводили к гангрене, и человек начинал гнить заживо. Не было ничего необычного в том, чтобы потерять все зубы, умереть от родильной горячки или скрючиться от ревматизма – и все это в возрасте до тридцати лет. Эти болезни были такой же нормой, как и вши в бороде, клопы в постели и тухлое мясо на обед. Физические и биологические катастрофы наряду с повсеместной нищетой были неотъемлемой частью жизни и не казались чем-то стоящим обсуждений. Трудно понять, что имеют в виду историки, утверждающие, что в средневековом обществе бедность, голод и эпидемии не считались социальными и коллективными проблемами. В те времена никто не думал, что с такими проблемами можно или нужно бороться; в современном развитом обществе такую позицию невозможно даже вообразить. Тогда же казалось, что даже сами бедняки не слишком переживали по поводу своей бедности. Конечно, они испытывали голод, телесные страдания и боль, вызванную несправедливостью и жестоким обращением, однако они были частью культуры, которая не рассматривала «бедность» как социальную проблему. Физическое страдание не обсуждалось, подобно тому как сексуальность не обсуждалась в викторианских салонах. Голод и холод были сугубо личными телесными переживаниями и часто сопровождались чувством стыда. Тело всегда знает, что для него представляет угрозу; тем не менее на протяжении всего периода средневековья культура была слепа к физическим страданиям бедных и обездоленных, потому что для их тел страдание считалось «нормальным».
Единственным ритуалом, принятым в культуре, было обращение со своими горькими жалобами к Богу в храме. «Miserere, Miserere» – «Помилуй мя, Боже»1. Страдание не было темой в искусстве, аргументом в политических дебатах или удобным поводом для героев, стремящихся спасать других. Жизнь заведомо воспринималась как юдоль печалей. Хорошую жизнь бедняки надеялись обрести лишь в раю. Такая установка существовала вплоть до XIX века, а где-то сохранилась до сих пор.
Произведения Виктора Гюго и Чарльза Диккенса стали поистине революционным явлением. Они не призывали к сочувствию и переменам, так как, будучи художниками, знали, что назидательные и морализирующие истории плохо продаются, и оба были невероятно популярны у всех социальных слоев. Именно благодаря своему художественному гению, а не моральным проповедям они сумели привнести тему бедности в коллективное сознание. Революционным в их поступке было то, что они показали бедность образно, и образы эти были не такими, как те, что навязывала церковь. Они создали мифологию, которая проливала свет на трагедию эксплуатации. Люди начали понимать, что происходило не только с бедными и обездоленными, но и непосредственно со структурой их культуры. Романы Гюго и Диккенса тронули огромные массы людей, которые откликнулись на них, начали меняться, усвоили новое представление о том, что такое бедность. Бедность наконец-то была представлена в образах, вынесена на обозрение, оживлена посредством историй, которые с этих пор начали проникать в песни, пьесы, картины, анекдоты о богатых и жадных и речи политиков, продвигающих свои программы.
Функцией литературы, искусства, а также глубинной психологии является поиск образов, которые распахивают сердца и заставляют нас видеть то, что находится там, в нашей психологической реальности. Диккенс с бедным Оливером Твистом, Гюго и его милая маленькая Козетта и восхитительный Жан Вальжан, приговоренный к пожизненному заключению за украденную буханку хлеба, не оставили равнодушным ни одно сердце. Их муки, воплощенные в художественной форме, сделали зримой архетипическую реальность, которая до того не замечалась, никак не называлась и не затрагивалась. Их отчаяние, как и отчаяние всех тех, кто страдал от бедности, тюремного заключения, одиночества, было отделено от стыда. Их боль обрела величие человеческой трагедии. Задача глубинной психологии – сделать подобное с томящимися в неволе, угнетенными, изголодавшимися, озябшими и одинокими душами. Без художественной трансформации не может быть смены мифа.
Психологическое страдание, вызванное разбитым сердцем, – вот, пожалуй, единственное исключение, которое всегда привлекало внимание художников. Любовное томление – вот чувство, породившее больше песен, чем поглощенность человека Богом. Человечество обладает давней и прекрасной исторической традицией выражать страдания разбитого сердца с помощью искусства: в поэзии, живописи, танце, в печальной или бравурной музыке для всевозможных инструментов. Фаду, прекрасная песнь-плач, до сих пор исполняемая в некоторых деревнях Португалии, – это одна из многих мирских традиций, как и американская музыкальная традиция блюза и кантри, выражающая всем понятное горе тяжко страдающего сердца. Слова меняются, а чувства остаются теми же: «Я одинок, мне не хватает тебя. Неужели ты не вернешься? Я тоскую, я плачу, мне больно. Ты разбиваешь мне сердце. Без тебя жизнь бессмысленна».
Если прежде бедность была очевидной, но оставалась психологически незримой, поскольку не воспринималась как нечто достойное внимания, то сегодня мы игнорируем явный всплеск депрессии, зависимостей и психосоматических заболеваний. На наших глазах наступает банкротство либидинальной экономики, и это затрагивает миллионы людей. Заинтересованный человек, отследив быстрый рост доходов фармацевтических компаний, без труда может получить статистику беспрецедентного роста психологического страдания. При этом эпидемиологический характер психологических расстройств остается почти незамеченным, как будто для этих душ страдание нормально. Сколько людей регулярно чувствует себя слишком истощенным для занятий любовью, осознает свою психологическую кастрированность? Сколько тех, кто слишком много работает, слишком быстро ест, слишком мало спит, слишком долго простаивает в пробках, имеет дело с невыносимым начальником или несносными детьми, осознает, что стресс их убивает? Сколько агрессивных детей, посещающих отвратительные школы, живущих с перенапряженными родителями, осознает, что «адаптация» для них состоит в том, чтобы свыкнуться с чувством одиночества, никчемности и ненужности?
Депрессия – вот форма, которую принимает отчаяние (я использую старое слово вместо психологического понятия) в обществе изобилия. Наша душевная боль существует обособленно, она в основном неосознаваема, психологически незрима и не может выражаться так же остро, как физические страдания прошлых поколений. Даже если есть надежное жилье, нет угрозы голода, заработана хорошая пенсия, денег хватает не только на базовые потребности, все равно ощущается боль, которая становится тем сильнее оттого, что вызывающие ее драмы – не того рода, что вдохновляли на прекрасные псалмы «Мизерере». Современное психологическое страдание чаще проникает исподволь, как холод, который, окутав целые нации, держит их неподвижными перед экранами телевизоров2, пока замерзают их сердца3. Популярность горестных песнопений, кажется, сошла на нет тогда же, когда перестали петь колыбельные.
Ознакомительная версия.