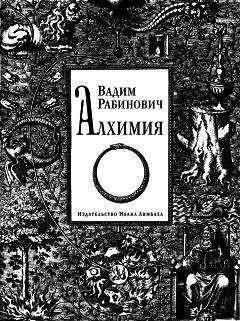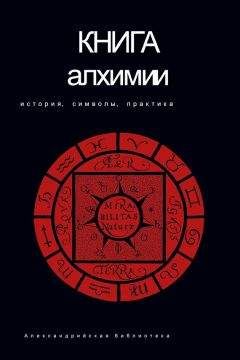Все принюхались. Кто обманывал советскую власть, слыл порядочным, кто прикидывался, что верит в нее, — нет. Хоть бы кто-нибудь был честным! Как Распутин какой-нибудь, стыдливо пряча Госпремию в карман от страдающего народа! Хоть бы кому-нибудь пришло в голову смутиться предмета изучения! Пушкина или даже Горького. «Хочу быть честным» — так и остался лучшим рассказом. Все хотели… Когда (вдруг и незаметно) пришлось объяснять (почему-то одновременно), что ты любишь Россию (или, по крайней мере, русский язык) и что ты не антисемит (или, по крайней мере, не националист), тогда все и началось. Никто и не заметил руководящей роли и мудрости Партии и Правительства: разделяй и властвуй (без знания латыни). Выделим как 02. Латынь. Кто ее знал?
Солженицын стоит, как скала, потому что «ГУЛАГ» написан латынью, потому что русский вымер, кроме мата. Тут-то честный Рабинович и извлекает свои пять процентов из своего пятого пункта. Пользуясь своим химическим образованием, начинает изучать алхимию: никому и в голову не может прийти, что эта лженаука может стать не предметом разоблачения, а предметом изучения. Зато можно не ходить каждый день на работу, кропать стишки, получать зарплату, правда, придется посещать заседания сектора, но и там можно прижаться в уголку ввиду экзотичности предмета собственных исследований. Так и слышу: «Как исследователь истории алхимии не могу ничего добавить к вышесказанному». Какое счастье такая свобода! О, никто не знает, насколько свободен Рабинович! Никто не знает, насколько вообще свободен еврей, потому что это единственный его секрет. Он может не только любить Россию, но и изучать ее, познавая что угодно, хоть химию, хоть алхимию.
Познавать. То есть жить. Никто не знает, насколько свободен человек! Особенно Власть об этом без понятия. Она способна только портить жизнь. Только в древнегреческом и латыни она не могла учесть антисоветчины. Вот наконец и разгадка, которая раскрывается только в тексте; вот секрет столь неожиданного успеха Аверинцева и Гаспарова, Комы Иванова и Рабиновича (Лосев уже свое отсидел): мертвые языки не врут, они уже не могут меняться. Ишь, евреи! вздумали сделать свой мертвый язык живым.
Академик Раушенбах (немец) отказался от заманчивых американских предложений: «Я не хотел бы жить в стране, в которой не было Средневековья». Средневековье в России, выходит, было. Быть может, и раннее, но зато непройденное. Как и Просвещение. Страна вечного Возрождения. Как Япония Восходящего Солнца. Античности у нас точно не было. Когда меня спрашивают о русском менталитете, то своим, озлившись, я говорю, что он происходит от слова «мент». С западными интеллектуалами начинаю рассуждать о невозможности перевести на русский слово «айдентити». С более широкой публикой утверждаю, что русские — это недополучившиеся немцы, евреи и японцы. И все спрашивают: почему японцы? А вот потому, говорю. И начинаю, последовательно, с немцев.
Выделим 03. Японцы. А вот потому, что в Японию меня не выпустили, чтобы я раньше до всего не додумался, а в Армению — пожалуйста, и в аспирантуру — пожалуйста. Тут и Рабинович катится по Садовому Кольцу как солнце. В ЦДЛ! — вот лозунг мой и Рабиновича.
Он завершает в моем менталитете Средневековье. А то я только слышал о Блаженном Августине, а так, пожалуй, слабо отличаю его от Франциска Ассизского. Раздельны лишь тосты за того и за другого. Средневековье было не такое уж темное, как оказывается. Поэтому и понадобился свет инквизиционных факелов, для поджога. Тогда же их и начали особенно гонять, евреев. Так ли уж интересна алхимия? Может, стоит извлечь гомункулуса? Обрести айдентити? Чего действительно нельзя простить еврею, так это неоспоримости его принадлежности.
Евреи каждый состоит из Я, поэтому так непосредственно соединяются в формулу МЫ.
МЫ можно простить только Рабиновичу. Рабинович = это наше МЫ. Про Рабиновича как-то нелепо сказать, что он еврей. Он может быть украинским, белорусским, молдавским, но он русский.
Он вызывает благодушную хаймскую улыбку даже у погромщика. Наш. Наконец-то! Я — это я, потому что он — это он. Вот почему писать честно при свободе слова стало так противно. Стыдно задним числом, совестно перед языком. Хоть в мусульманство переходи! не так лживо.
Зачем было немке Екатерине Великой выдумать две точки над буквой Е? Зато я помню, кто мне рассказывал про того, кто первый выдумал запятую… Опять же Рабинович. Кто рано встает, тому бог подает… У Рабиновича день начинается рано — он петушок: «Вставай, брат Битов, пиши мой текст «Рабинович как зеркало русской национальной идеи»». «Взрослый вы уже человек, Вадим Львович, а все шутите». (Так сказал Твардовский Заболоцкому, прочитав в предложенной в «Новый мир» подборке следующие строки в стихотворении «Лебедь в зоопарке».)
Плывет
Белоснежное диво,
Животное, полное грез…
И кто мне скажет, что лебедь не животное?
Абдусалам Гусейнов. Рабинович и Бог
Написав вынесенные в заголовок слова, я тут же испугался: а не принижаю ли я Рабиновича? Согласятся ли его креативный ум и вольнолюбивая душа всего лишь удовольствоваться высотой, которую один из его соплеменников уже достиг много веков назад? Рабинович чувствует и мыслит себя как нечто единственное и в том смысле, что никто не может его заменить, и в том смысле, что он сам являет собой новую форму бытия, для понимания и оценки которой не существует никаких заданных критериев. Поэтому, видимо, любое утверждение, которое устанавливает связь Рабиновича с чем-то, выводит его из чего-то, подводит подо что-то, которое содержит в себе какие-то другие слова, помимо слова «Рабинович», любое такое утверждение может быть им воспринято как неадекватное. Рабинович превратил свое имя в понятие, но именно в качестве имени — он не перешел, не излился в какое-то понятие, став русским поэтом, талантливым философом, известным культурологом, признанным исследователем алхимии, хотя все это говорится о нем и говорится справедливо. Он плюс к тому и сверх того сам стал понятием.
Конечно, наш Рабинович — не единственный Рабинович в мире. Даже очень краткий всемирный биографический словарь, выпущенный издательством «Российская энциклопедия», содержит пять Рабиновичей (для сравнения скажу, что там всего два Гусейновых). Я даже как-то посоветовал ему подготовить справочное издание «Рабиновичи», посвященное всем его известным однофамильцам. Он в свойственной ему манере шутливо обыграл мое предложение, признав интересным и даже выгодным, но тем не менее отклонил его — может быть, потому, что эта удачная мысль пришла в голову не ему и потому является не столь удачной и уж во всяком случае не отвечает критерию единственности, а может быть, потому, что он не понимает и не принимает самого факта множественности Рабиновичей. И в самом деле, как бы много ни было на свете Рабиновичей, Рабинович — один. Это так для тех, кто знает его, и, что особенно важно, это так для него самого. Ведь и Пушкиных на свете много. Я, например, на своем жизненном пути сталкивался с двумя живыми Пушкиными. Но тем не менее мы все знаем, что Пушкин — один. И когда мы говорим: Пушкин, все понимаем, о ком идет речь. И не надо добавлять, что это — поэт, Александр Сергеевич и т. д. Только теперь, приведя сравнение с Пушкиным, я понимаю, насколько нелепым, глупым и обидным было мое предложение о справочнике «Рабиновичи» — это как если бы я Пушкину предложил составить справочник «Пушкины». Ведь он сам есть справочник и больше, чем справочник.
Словом, Рабинович равен самому себе. Ему невозможно угодить и польстить никакими сравнениями и эпитетами. Но если уж кто действительно хочет угодить и польстить ему, то у него есть одна только возможность — говорить о нем в соотнесенности с Богом.
Здесь я должен сделать оговорку, которая может Рабиновичу показаться обидной. Сознание своей единственности, для которой даже перспектива Бога не кажется преувеличенной, — не его индивидуальная черта. Это — черта странного, я бы даже сказал рокового (именно: рокового!) поколения советских шестидесятников, к которому успел примкнуть Рабинович, словно прыгнув на подножку уходящего поезда. Шестидесятники (по крайней мере, шестидесятники в философии) кончаются людьми 1934 года рождения и ими же представлены самым массовым образом. Среди них очень мало, буквально случайные единицы, родившихся в 1935 году. Наш Рабинович, конечно, оказался среди них, что между прочим тоже может считаться знаком его незаурядности. Шестидесятники (дети XX съезда, как они первоначально любили называть себя, хотя теперь они вряд ли будут настаивать на таком самообозначении и скорее уже — кстати сказать, совершенно справедливо — рассматривают себя как людей, подорвавших социализм изнутри, провозвестников и носителей либерально-демократических преобразований в стране) представляют собой совершенно особую породу людей, которые резко отличаются от поколений, предшествовавших им и последовавших за ними, настолько резко, что, например, я, отставший от них всего на пять лет, нахожу их столь необычными, как если бы они были пришельцами с других планет. Одна из черт, присущих шестидесятникам, говоря точнее, конституирующих сам феномен поколения российских шестидесятников XX столетия, — присущее каждому из них внутреннее сознание своей единственности и прямо противоречащее такому сознанию желание быть признанными, утвердиться в своей единственности. Рабинович как один из шестидесятников вполне вобрал в себя эту черту, а точно один из самых юных среди них еще и откровенно сознается в ней. И может быть, именно она стала решающей причиной, из-за которой его прибило к их берегу. Это отступление призвано подчеркнуть лишь серьезность моих заметок. Не более того. Ибо речь все-таки я веду не о шестидесятниках, а о Рабиновиче.