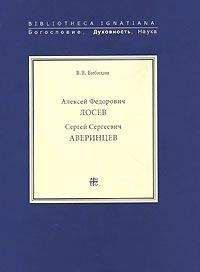Сергей Аверинцев
•
Моя ностальгия
…Ах, не по доброму старому времени, какое там; время моих начальных впечатлений — это время, когда мне, шестилетнему или вроде того, было веско сказано в ответ на мой лепет (содержание коего припомнить не могу) одним стариком из числа друзей семьи: «Запомни: если ты будешь задавать такие вопросы чужим, твоих родителей не станет, а ты пойдешь в детдом». Это время, когда я, выучась читать, вопрошающе глядел на лист газеты с признаниями подсудимых политического процесса, винившихся невесть в чём, а моя мама, почти не разжимая губ, едва слышно и без всякого выражения сказала мне только два односложных слова, которых было больше чем достаточно: «Их бьют». Это время, когда пустырь возле Бутиковского переулка, где потом устроили скверик, был до отказа завален теми обломками храма Христа Спасителя, которые не сумели приспособить к делу при строительстве метро. Это время, когда я, подросток, воспринимал дверь той единственной комнаты в многосемейной коммуналке, где со мной жили мои родители, как границу моего отечества, последний предел достойного, человечного, обжитого и понятного мира, за которым — хаос, «тьма внешняя». О Господи, о чём говорить. Какая уж тут ностальгия…
Но ведь и с теми временами, которых я не видел, — что ни выбери, хоть belle epoque накануне 1914 года, хоть прошлое столетие, хоть какую-нибудь вовсе уж «умопостигаемую» или уму непостижимую старину, — как не чувствовать, насколько любое доброе старое время было страшным и смутным, как много опасностей таилось в уюте, как много нечистоты — в благонравии, как много жестокости — в благообразии.
И всё-таки — смотрю сам на себя с удивлением! — всё-таки ностальгия. Ностальгия по тому состоянию человека как типа, когда всё в человеческом мире что-то значило или, в худшем случае, хотя бы хотело, пыталось, должно было значить; когда возможно было «значительное». Даже ложная значительность, которой, конечно, всегда хватало — «всякий человек есть ложь», как сказал Псалмопевец (115: 2), — по-своему свидетельствовала об императиве значительности, о значительности как задании, без выполнения коего и жизнь — не в жизнь.
Не буду спорить, что бывали времена, когда этот императив доходил до неутешительных крайностей. В особенности европейская культура конца прошлого века и рубежа веков, то есть вагнеровско-ницшевско-ибсеновской эпохи, страдала болезненной гипертрофией секуляризованного в своей мотивации и перенесённого в повседневную жизнь «образованного сословия» напряженного, натужного устремления быть значительными. Это было особенно характерно для Bildungsburgertum протестантских стран; недаром же Ницше был пасторским сыном. И как там сказано у Мандельштама про Ибсена? «Аптекарю из Христиании удалось сманить грозу в профессорский курятник и поднять до высот трагедии зловеще-вежливые препирательства Гедды и Брака». (А без Ибсена не понять всего этого времени; жаль, что наше поколение русской грамотной публики было, кажется, последним, рассматривавшим чтение его драм в отрочестве как непременную обязанность.) Однако эпидемия ультрасерьёзности захватывала и другие страны и социальные круги. Куда как серьёзна была русская интеллигенция: чахотка не одного Надсона была для неё не медицинским казусом, а знаком того, что человек — «сгорел». А потом пришли символисты, и тут уж решительно всё стало символом, и даже бытовая пошлость — «таинственной», как в стихах Блока. «О, сколько здесь таин!» — как поётся в старых потешных стишках. Слов нет, нельзя изо дня в день жить посреди тешащих гордыню и мучащих нервы многозначительностей.
И уж вовсе на неправде основывалась устрашающая серьёзность ежесекундно готовых убивать и умирать за новую жизнь и спасение человечества — ни больше ни меньше — большевиков, штурмовиков и прочая. И не от хорошей жизни являлась значительность геройского сопротивления тоталитаризму; никто из нас в здравом уме не пожелает ни себе, ни тем паче другому — положить голову на плаху, хотя жест этот, несомненно, бывал весьма значительным.
Притом значительность не имплицирует ни этического, ни тем паче интеллектуального качества. Возьмем хоть политику. Оставим Ганди, который хотя и действовал на политической арене, но, конечно, был уникален для любого времени. Перейдем к более обычному типу государственного человека. Я знать не знаю, был ли де Голль разумным политиком; но он был — не только силой «легенды» и пропаганды — «значителен», как «великие мужи» а la Плутарх. (А если бы и силой легенды — кто сложит такие легенды про нынешних?) На Черчилле — несмываемая вина за ненужные стратегически бомбежки немецких городов; но он тоже — vir magnus в старом плутарховском смысле, ничего не поделаешь, он что-то значил, что-то символизировал. От его потрясающей риторики самого первого периода войны, когда Франция рухнула на колени, а Британия стояла против Гитлера совсем одна, и сегодня перехватывает дыхание. По крайней мере у меня. К политике это не имеет отношения. Но к словесности, к эстетике тоже не сводится.
Впрочем, то же и с эстетикой. В первой половине века были «авангардисты», и нынче есть «авангардисты». Но разве вторые хоть отдаленно похожи на первых? Новшества тех имели значение патетического жеста, готового возвестить либо — «incipit vita nova», либо — конец всему, либо, может быть, — и то и другое сразу. Эсхатологическая труба архангела. Вот Малевич пишет свой черный квадрат. Это серьёзно, как движение бедного маленького Ганно Будденброка, подводящего черту под своим родословием: больше ничего не будет! Нынче-то жители западных городов проходят мимо абстрактных скульптур не оборачиваясь; а то было иначе — потрясенный мир узнавал о рождении беспредметного искусства как о знамении, о предзнаменовании наподобие тех omina (скажем, рождении тельца о двух головах), о которых так любил рассказывать в своей римской истории Тит Ливий. И Бердяев именно так писал свою статью о Пикассо.
Любопытно, что мыслители, вроде бы положившие начало кампании столь сугубо современной, как «сексуальная революция», хотя бы Василий Розанов и Дэвид Лоуренс, имели в предмете, что ни говори, нечто обратное тому, что на деле вышло, — а именно, предельную интенсификацию значительности и значимости плотского общения мужчины и женщины, его новое возведение в ранг языческой мистерии. Примеры можно умножать без конца. Даже движение хиппи, даже (во многом доселе определяющая западную университетскую жизнь) студенческая «революция» 1968 года, эта не слишком серьёзная сатировская драма, по правилам античной драматургии замкнувшая целый цикл трагедий, — и они жили трепетностью квазиэсхатологических чаяний и претензий на значение, превышающее их самих. В самых различных, самых разнокачественных и самых противоречивых своих аспектах культура (и отчасти жизнь) предшествовавшей эпохи стоит под знаком того, что мы назвали выше императивом значительности.
…Если бы, о, если бы всё это нынче хотя бы осмеивалось, с пониманием пародировалось, принципиально, обдуманно отвергалось! (Тотальное и сознательное «нет» серьёзности в духе «Степного волка» Гессе, «Homo ludens» Хейзинги или карнавалов Бахтина тоже ведь в своем роде серьёзно, а если практикуется на обэриутский манер, так даже смертельно серьёзно.) Можно бы понять чувство оскорбления после стольких идеологических обманов; известно, обжегшись на молоке, дуешь на воду. Но нет, сегодня дело обстоит совсем иначе. Значительность вообще, значительность как таковая просто улетучилась из жизни — и стала совершенно непонятной. Её отсутствие вдруг принято всеми как сама собой разумеющаяся здоровая норма. Операция совершенно благополучно прошла под общим наркозом; а если теперь на пустом месте чуть-чуть ноет в дурную погоду, цивилизованный человек идёт к психотерапевту (а в странах менее цивилизованных обходятся алкоголем или наркотиками). Разве что в малочитаемых книжках помянут «Sinnverlust», но опять-таки как проблему скорее психическую, нежели духовную или «экзистенциальную».
Вот, положим, в Вене поставили «Тристана и Изольду». Вроде бы и певцы, и оркестр знают своё дело — а слушать нет никаких сил. Согласен, напряженную значительность, которую Вагнер придаёт каждой музыкальной и словесной фразе и каждому жесту героев, можно находить непереносимой — тогда честнее не участвовать в исполнении его музыкальных драм. Либо уж позволить себе более или менее агрессивную пародию. Атмосферу значительности, значимости, почти ритуальной, почти иероглифической знаковости, столь совершенно воссоздавшуюся в блаженные времена Фуртвенглера, Зутхауза и прочих, можно, на худой конец, уж если так хочется, — пародировать; чего нельзя, так это ухитряться её не замечать. Это непозволительно делать просто потому, что означенная атмосфера входит как конструктивный фактор в художественное целое. Если, скажем, для Тристана не существует никакого серьёзного выбора между его любовью и его «честью» («Tristans Ehre…»), потому что и он и Изольда, по-видимому, получили сексуальное просвещение в новейшем духе и смотрят на вещи очевидным образом вполне спокойно, озабоченные только тем, чтобы вовремя спеть нужную ноту, — тогда и ноты и (сплошь «устаревшие») слова, ими артикулируемые, просто перестают быть системой значащих жестов, распадаются, разваливаются. Однако, заверяю вас, в упомянутом исполнении всё шло именно так.