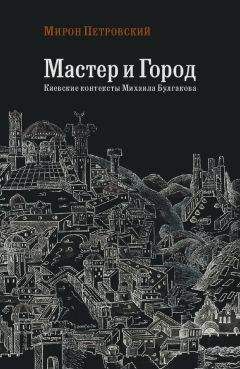Ознакомительная версия.
Мирон Петровский
Мастер и город. Киевские контексты Михаила Булгакова
© М. С. Петровский, 2001, 2008
© Издательство Ивана Лимбаха, 2008
© ИП Князев 2015
* * *
…уж близко, близко время:
Наш город пламени и ветрам обречен;
Он в угли и золу вдруг будет обращен,
И мы погибнем все, коль не успеем вскоре
Обресть убежище; а где? о горе, горе!
А. С. Пушкин. «Странник» (1835)
Глава первая
Декларация о городе
Чтобы понять поэта, нужно побывать в его стране… Этот афоризм Гёте нет смысла заключать в кавычки – он стал чем-то вроде пословицы. Он цитируется так часто и охотно, что занял бы одно из первых мест в индексе цитирования, если бы такой индекс составлялся для газетно-журнальной публицистики, посвященной вопросам культуры. Особенно эффектно афоризм звучит в отчете литературоведа или писателя, побывавшего в шекспировской Англии, шиллеровской Германии, сервантесовской Испании. Словам Гёте придается при этом неожиданный прямой смысл, словно веймарский старец здесь входил в интересы туристских агентств и рекламировал их деятельность.
Но Гёте, ничего не имея против международного туризма, сам обязанный ему многим, говорил все-таки не о нем, а о конкретных обстоятельствах места и времени, о типологии национальной культуры, в лоне которой возрос поэт, о культурном контексте поэта. Вне контекста нельзя понять ни «всеобщее», ни «особенное» в индивидуальном творчестве (структура этого творчества не может быть объяснена из себя самой), – вот что подразумевала порожденная острым морфологическим чутьем, намного опередившая время мысль Гёте. Она была порождена и несомненно лирическим чувством: глубоко переживая прикрепленность своего творчества к немецкой почве, Гёте приглашал каждого, кто захочет понять «Фауста», «посетить» Германию, Тюрингию, Веймар. Для такого «посещения» абонемент научной библиотеки важнее визы, потому что предлагаются не «страсти по Бедекеру», а культурно-познавательные усилия широкого плана.
Тут в самый раз вспомнить выученика выдающихся европейских и отечественных городоведов Н. К. Пиксанова, который в книге «Три эпохи» (1913) впервые высказал и в книге «Областные культурные гнезда» (1928) наиболее полно развил мысль об особом характере местных культурных очагов, об их локальной специфике, хорошо заметной при соотнесении с общенациональной культурой, об отмеченности художника, выпестованного культурным гнездом, знаком этого гнезда. Предлагалось – ни много ни мало – изучение типологии культуры, общей для гнезда и его питомца, и даже слово было помянуто то самое: предшествующие поколения исследователей накопили большой материал, полагал Н. К. Пиксанов, и остается только сделать выводы – установить «типологические образцы и приемы для др. исследований»[1]. Перед нами – одно из самых ранних употреблений слова «типология» в русской литературе. Пиксановское «культурное гнездо» – это она и есть, «страна поэта», ближайшая «логосфера» писателя.
Свой «особый отпечаток» не только «на всех московских», что справедливо отмечено еще Грибоедовым, но и на воронежских, и на саратовских, и на харьковских, и на ярославских, и на одесских, понимаемых, конечно, не просто как «жители», но как участники культурного процесса, сформированные обстоятельствами времени и места, – и в свой черед формирующие эти обстоятельства. «Особый отпечаток» – печать принадлежности к определенному областному гнезду русской культуры. Совокупность этих отпечатков – материал для построения культурной типологии данного гнезда. Нужно только помнить, что далеко не всякий город, даже крупный, становится культурным гнездом; для этого требуются серьезные социальные предпосылки, пробуждающие культурные силы: университет, театр, библиотека, газета или журнал, литературные или театральные кружки и тому подобные образования, становящиеся, так сказать, «очагом очага».
Появление в литературе «воронежского прасола» Кольцова можно было еще рассматривать как необъяснимую прихоть судьбы, но когда вслед за тем в столичной печати появились произведения другого воронежского поэта, Никитина, – «стали догадываться, что в этом выдвижении двух значительных поэтов нет случайности, что тут следует искать каких-то общих причин»[2]. Кольцов и Никитин были только наиболее яркими фигурами в большой группе культурных и литературных деятелей, воспитанных воронежским областным гнездом.
Ни чудом, ни случайностью не было поразительное явление Ломоносова из Холмогор. Оказалось, между прочим, что вместе с ним оттуда же, с русского Севера, прибыла целая «делегация», в которую входил и лучший русский скульптор той эпохи Ф. И. Шубин. Известно, что тогдашняя Академия наук была укомплектована, в основном, учеными иностранного происхождения; все русские члены Академии – современники Ломоносова – оказались и его земляками. Общий знаменатель этой холмогорско-архангельской плеяды следует приписать характеру и влиянию культурного гнезда.
Точно так же (добавим из другого времени) не было ни чудом, ни случайностью явление из Киева писателя Михаила Булгакова. Чудо предполагает однократность, оно по определению не может быть серийным, а Киев с конца XIX века непрерывно порождал явления отнюдь не городского масштаба и выводил персонажей воистину удивительных. До сих пор мало кем осознается тот, например, факт, что русский символизм, определивший развитие отечественной культуры далеко за пределами так называемого «Серебряного века», ведет свое начало из Киева, со статей и манифестов Николая Минского, Иеронима Ясинского и Виктора Бибикова, как показала в своих поздних работах З. Г. Минц. Что три крупнейших русских философа первой половины XX столетия – Николай Бердяев, Сергей Булгаков и Лев Шестов – киевляне по рождению или по воспитанию. Что почти одновременно с Михаилом Булгаковым покинул Киев и осел в Москве другой киевлянин, другой «прозеванный гений», по горькому слову Вадима Перельмутера, – Сигизмунд Кржижановский, чье поразительное творчество дает с булгаковским цепочку чрезвычайно выразительных соответствий жанрового, сюжетного, образного характера. Что философ из Киева Яков Голосовкер, перебравшись в Москву, сочинил, между прочим, роман о Христе, сжег его, а потом восстановил, подобно тому, как сделал это сам Булгаков. Словно писать в Москве романы о Христе, сжигать их и затем восстанавливать – необходимая принадлежность некоей «киевской типологии»…
Выходцы из областных культурных гнезд нередко «занимают в столичной культуре крупное, руководящее положение… Все знают это, но мало кто осознает. Факт признается всеми безотчетно. Между тем, чтобы осмыслить появление и роль этих деятелей в общерусской культуре, необходимо изучить гнезда, в которых они воспитывались»[3]. То есть – побывать в стране поэта, в обратном переводе на язык гётевского афоризма.
Пиксанов работал над «Областными культурными гнездами» как раз в то время, когда положенная в основу его книги мысль убедительно подтверждалась многочисленными фактами культурного развития. Революционная буря повалила леса и рощи старой культуры, и на этом лесоповале возникала поросль новых культурных образований. Скоро, очень скоро и по ним пройдется каток новой государственности, но пока – то наращивая активность, то притихая, делегируя своих питомцев в столичную культуру или сохраняя относительную автономность, они в короткий срок – и на короткий же срок – изменили культурную географию страны.
Одесское гнездо породило и десантировало в столицу группу ярких талантов, резко самобытных и одновременно родственных, что дало основание В. Шкловскому наречь их совокупным именем «Юго-Запад». Заштатный и мало кому ведомый Витебск свил гнездо, вместившее М. Шагала и К. Малевича, М. Бахтина, П. Медведева, В. Волошина, И. Соллертинского. Коротко, но ярко просверкала история «Черниговских Афин». Поразительный культурный всплеск (главным образом – театральный) дал Киев. Из феномена Пиросмани вырос тифлисский авангард – литературный и живописный. За Уралом сложилось по-сибирски крепкое культурное гнездо вокруг журнала «Сибирские огни». На другом конце страны, раздираемой в клочья Гражданской войной, Владивосток неожиданно аукнулся со столичными футуристами.
Странно, что в ту пору никто (и сам Пиксанов тоже) не обратил внимание на прогностические возможности этих идей: если из воронежского гнезда вышли поэты, подобные Кольцову и Никитину, то не следует ли ожидать выхода оттуда же – Андрея Платонова? Если Астрахань дала Тредьяковского, то не ей ли стать гнездом Велимира Хлебникова? Да и Тарту, ставший всемирно известным центром структурно-типологических исследований, не породил ли некогда ранние типологические попытки Пиксанова, воспитанника Юрьевского (по-нынешнему – Тартуского) университета, так что собственная судьба Пиксанова подтвердила его мысль о роли локального культурного гнезда?
Ознакомительная версия.