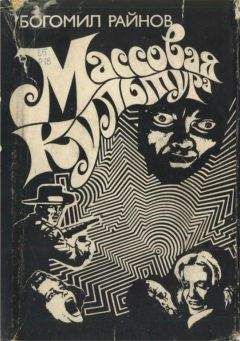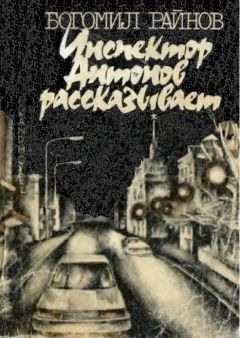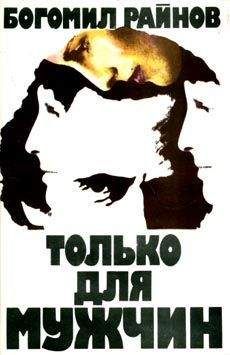Только с появлением на исторической арене пролетариата как организованной политической силы народное искусство и культура в эпоху капитализма достигают наибольшего размаха и получают верное направление. Идеология, которую коммунизм создает в своей борьбе против эксплуатации, становится основой развития народной культуры. И вряд ли можно найти для этого более блестящий пример, чем «Манифест Коммунистической партии» Маркса и Энгельса, в котором классики научного коммунизма не только сумели популярно изложить основы сложного философского учения, но и выразили его в убедительной, волнующей форме, сочетающей философскую глубину с поэтической образностью.
Даже эти бегло перечисленные факты свидетельствуют о том, что истинно народная культура в недрах капиталистического общества создается не господствующим классом, а теми, кто выступает против него. Явление вполне закономерное, тем более что буржуазия всегда считала и продолжает считать, что «излишняя» грамотность масс связана с серьезным риском. Или, как говорил Ницше: «Научили рабочего читать, и он принялся бунтовать». С другой стороны, в мире капитала именно специалисты по культуре твердо придерживаются взгляда, что широкие слои народа в принципе не способны наслаждаться настоящим искусством и ценить его. Эта так называемая «элитарная» концепция вот уже больше века неотступно господствует в западной эстетике.
Эту же концепцию, правда еще довольно бессистемно, развивал немецкий философ Артур Шопенгауэр (1788—1860). Можно сказать даже, что именно он исчерпывающе изложил ее основы, а его последователям-«элитаристам» осталось только виртуозно развить намеченные им принципы. По мнению Шопенгауэра, «…самые прекрасные произведения искусства, самые благородные создания гения для тупого большинства всегда останутся книгой за семью печатями, недоступной ему, как недоступно толпе общение с королями… Правда, даже самые пошлые люди, опираясь на чужой авторитет, не отрицают общепризнанных великих творений, чтобы не выдать своего собственного ничтожества. Но втайне они всегда готовы вынести им обвинительный приговор, стоит только поманить их надеждой, что это можно сделать, не осрамившись, — вот тогда-то с ликованием вырывается на волю их долго сдерживаемая ненависть ко всему великому и прекрасному, которое никогда не производило на них никакого впечатления и унижало их своей недоступностью»[14].
Несмотря на раздражительность, составляющую неотъемлемую часть шопенгауэровского пафоса, вышеприведенная тирада могла бы прозвучать довольно верно, будь она направлена против обывателя. Но, учитывая основные взгляды философа, наивно полагать, что, говоря о «тупом большинстве», он имеет в виду буржуазию. Для Шопенгауэра этот вопрос решен заранее, вместе взятые, являются «толпой», на которую он не устает изливать свою ненависть.
Безоговорочное отрицание прав и способности «большинства» наслаждаться произведениями искусства неизбежно порождает вопрос: какова же в таком случае польза от «прекрасных произведений», если для большинства людей они остаются «книгой за семью печатями»? Для Шопенгауэра этот вопрос решен заранее, причем наиболее абсурдным образом: гениальные произведения искусства всегда и во всех случаях абсолютно бесполезны. «…Произведения гения не служат никаким полезным целям, будь то музыка, философия, живопись или поэзия. Творение гения отнюдь не предмет, приносящий практическую пользу. Бесполезность — вот один из характерных признаков гениального произведения, его дворянская грамота. Все остальные творения человека предназначены для сохранения или облегчения его существования, и только те, о которых мы сейчас говорим, — нет; только они существуют сами по себе, и в этом смысле их можно рассматривать как цветы или как чистую прибыль бытия…»[15] Отношение «искусство — публика» в свете этой элитарной концепции логически ведет к теории «искусства для искусства» — именно к этому в конечном счете сводятся взгляды Шопенгауэра на занимающий нас вопрос.
Принципиально к ним очень близка, хотя и не столь последовательна, позиция Фридриха Ницше (1844—1900). В ранний период творчества, когда Ницше был сильно увлечен музыкой Рихарда Вагнера, его аристократизм еще носил все-таки довольно умеренный характер. Он понимал, что такое произведение, как опера, создается не для того, чтобы доставить удовольствие двум-трем слушателям. В одной из своих работ Ницше подробно останавливается на наслаждении, которое дает зрителю искусство сцены, когда эмоции индивида сливаются в единое целое с эмоциями других. В работе «Рождение трагедии» он писал: «И дионисическое искусство также хочет убедить нас в вечной радостности существования: но только искать эту радостность мы должны не в явлениях, а за явлениями. Нам надлежит познать, что все, что возникает, должно быть готово к страданиям и гибели; нас принуждают бросить взгляд в ужасы индивидуального существования — и все же мы не должны оцепенеть от этого видения: метафизическое утешение вырывает нас на миг из вихря изменяющихся образов… Несмотря на страх и сострадание, мы являемся счастливо-живущими, не как индивиды, но как Единое живущее, с радостью которого о своих порождениях мы слились»[16].
Впоследствии, охладев к творчеству Вагнера, которое в какой-то мере только и связывало его с «толпой», философ решительно выступил не только против этого композитора, но и против театра вообще — именно потому, что театр — искусство для широкой публики: «В театре нет уединения, а все истинно возвышенное совершенно не терпит свидетелей… В театре ты становишься толпой, стадом, женщиной, фарисеем, горластым скотом, покровителем искусства, идиотом, вегетарьянцем! В театре личная совесть каждого устанавливается на общем уровне большинства; в театре царствует сосед, и, благодаря этому, ты сам превращаешься в соседа»[17].
Так Ницше приходит к ницшеанству в его химически чистом виде: все человечество состоит из людей двух видов — с одной стороны, избранные, те, кто обладает способностью создавать искусство и наслаждаться им, с другой — многомиллионная масса, толпа, единственная задача которой — обеспечение избранных. Как известно, Ницше был поклонником античности, и потому его представление о будущем мира строится по модели рабовладельческого строя: «Более высокая культура сможет возникнуть лишь там, где существуют две различные общественные касты: каста работающих и каста праздных, способных к истинному досугу; или, выражаясь сильнее: каста принудительного труда и каста свободного труда»[18].
Несколькими десятилетиями позже элитарная концепция с такой же откровенностью будет сформулирована Освальдом Шпенглером (1880—1936) в его труде «Закат Европы». Шпенглер в свою очередь считал, что люди по самой своей природе делятся на «немногочисленный класс высшего типа» и «толпу». Стремясь доказать, что это деление не результат философских спекуляций, а реальный факт, Шпенглер приводит известные примеры из эпохи Возрождения и абсолютизма: «Целые эпохи, как, например, эпоха провансальской культуры или культуры рококо, отличались высшей степенью изысканности и исключительности. Их идеи, язык их форм понятны лишь малочисленному классу людей высшего типа». Что же касается Возрождения, то оно «было созданием Медичи и отдельных избранных умов, обладавших вкусом, сознательно разграничивавшим их от толпы, а флорентийский народ смотрел на все это с равнодушием, удивлением или недовольством, а в известных случаях, как это было при Савонароле, с увлечением уничтожал или сжигал образцовые произведения»[19].
Разумеется, верно — и мы уже об этом упоминали, — что в прошлом народ целыми столетиями держали в стороне от официального искусства. Но если пример с абсолютизмом в этом отношении можно считать удачным, то, говоря о Возрождении, Шпенглер просто искажает факты. Не будем гадать, идет ли в данном случае речь о сознательной вольности или просто о неосведомленности. В том и другом случае ошибка весьма существенна, именно благодаря ей Шпенглер приходит к своему конечному выводу о неспособности «толпы» понимать искусство. При этом очень легко каждый известный в истории вандализм приписать «народу», забывая, что именно любимый Шпенглером класс элиты — прежде всего папы и феодалы — прямой виновник уничтожения тысяч античных памятников, считавшихся языческими идолами, и что позже, в период Возрождения и барокко, тот же самый класс продолжал свою варварскую деятельность в области искусства, приговорив к сожжению «за безнравственность» бесчисленное количество рисунков и гравюр Аннибале Карачи, Джулио Романо, Маркантонио Раймонди и многих других. Интересно было бы узнать также, почему Шпенглер, говоря о Возрождении, не обратился несколько назад, к раннему Ренессансу и готике, когда великие произведения искусства создавались самим народом, народными мастерами, организованными в средневековые гильдии и цехи.