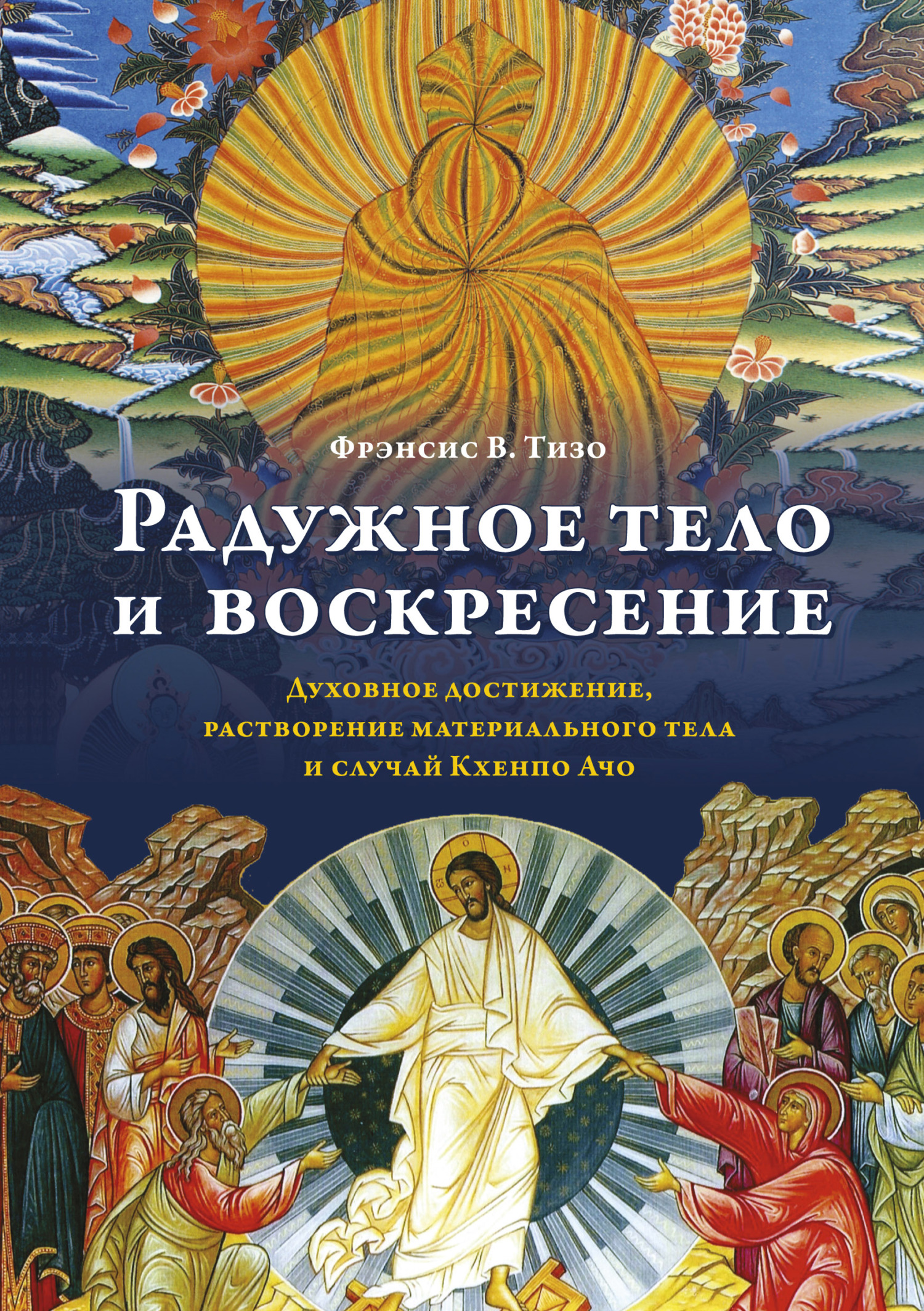уникальную функцию. Эта идея облекалась в метафору человеческого тела. Конфуцианский мыслитель Ямага Соко (1622—1685) отмечал: «Три сословия [в данном случае автор привычно для того времени исключает из списка привилегированное самурайство, имея в виду крестьян, ремесленников и торговцев. — А. М.] подобны телу, император подобен сердцу. Эти три сословия едины и неразделимы, среди них наиболее важны земледельцы... Если взять пример человеческого тела, то земледелие соответствует плоти... Тело поддерживает сердце, сердце управляет телом, они существуют неотторжимо друг от друга»
11. Заимствуя и переосмысляя буддийскую терминологию, тот же автор говорил о том, что «три сословия» являются «тремя сокровищами» (Будда, его учение и сангха — община верующих)
12. Их следовало пестовать и беречь, потому что без них и сама жизнь самураев была бы невозможна, в чем они отдавали себе полный отчет.
Такова была теория. На сторонний же взгляд разница между «высокими» и «низкими» (между самураями и всем остальным населением) была огромной — недаром и Ямага Соко исключил из своей классификации самураев. В теории самурай имел право без суда и следствия зарубить мечом любого, кто не оказал ему должного почтения на улице (на практике, однако, это случалось редко, так как потеря контроля над собой считалась для самурая недопустимой слабостью). В любом случае «настоящий» самурай не должен был находиться в одном помещении с простолюдинами. Посещать театр считалось для него «неприличным», хотя высокопоставленный самурай (князь) и мог приглашать артистов для выступлений в своем доме. Если же самурай все-таки отправлялся в театр, он заматывал голову полотенцем и не брал с собой свой главный сословный атрибут — длинный меч. Повязывали полотенце на голову и те небогатые самураи, которые не могли содержать слуг и которым поэтому самим приходилось ходить в лавку13. Не посещали самураи и места, где простолюдины играли в азартные игры. То же самое касается и общественных бань. Японская культура не знала ничего подобного европейскому карнавалу с его перевертыванием социальных ролей. В этой культуре социальную роль разрешалось лишь подтверждать, никому не приходило в голову мечтать о собственном «блестящем» будущем.
Несмотря на широкое распространение юмористической и пародийной литературы, она не ставила своей целью критику режима, не подвергала сомнению существующее положение вещей. Японские литераторы смеялись над «простыми» людьми и их слабостями. Слабым эквивалентом карнавала можно, пожалуй, считать лишь юмористические сценки (кёгэн, букв, «безумные речи»), исполнявшиеся в антрактах «серьезных» пьес театра Но. В этих интермедиях слуги, бывало, оказывались хитрее своих не слишком сообразительных хозяев (князей). На большее тогдашняя японская культура не отваживалась, а антракты кончались быстро. К тому же все эти пьески (во всяком случае, известные нам) были написаны в период, предшествующий установлению власти Токугава.
Статусная разница проявлялась не только в стиле жизни и обыкновениях, она распространялась и на внешность. Европейские путешественники XIX в. почти единогласно отмена-ли, что представители высших сословий обладали «благородной» внешностью, которая сближала их с европейцами. Контраст между «благородными» и «низкими» настолько бросался в глаза, что И. А. Гончаров полагал: такая разница объясняется тем, что в незапамятные времена одно племя (ведущее свое происхождение от китайцев) завоевало другое (малайское), и это было закреплено в жесткой социальной стратификации, т. е. в настоящее время на территории Японии фактически обитают два народа14.
Обращает внимание, что социальное деление было основано на профессиональном признаке. Если раньше японские мыслители (в основном это были буддисты) много внимания уделяли «человеческой природе» вообще, то теперь этот аспект в значительной степени отходил на второй план. Теперь в повестку дня становилось обсуждение не только и не столько Пути человека вообще, сколько Пути воина, Пути крестьянина, ремесленника, торговца.
В отличие от Европы, клирики находились за пределами основной социальной сетки. Период Токугава характеризуется значительной потерей религиозной пассионарности, которая была свойственна Японии прошлых веков. Считается, что это время не порождает религиозных личностей того масштаба, какие появлялись в прежние времена. Вероятно, более правильным было бы утверждение, что носители чисто религиозных ценностей были востребованы в меньшей степени. В обществе (его элитарной части) господствовало неоконфуцианское понимание религии, согласно которому она считается в значительной степени предрассудком. Разумеется, это отнюдь не означает прекращения отправления многочисленных буддийско-синтоистских ритуалов, но все-таки по сравнению с прошлым временем «посюсторонняя» часть жизни стала волновать японцев в гораздо большей степени и приобрела самостоятельную ценность. Японцы того времени в общем и целом расценивали свое время как вполне благополучное, столь характерные для прошлого времени буддийские сетования на скорый конец света или же мучительность жизни оттесняются на обочину. Таким образом, буддийское понимание жизни как «страдания» отступает на второй план; признание равенства всех людей перед ликом Будды уступает место пониманию каждого человека прежде всего как носителя определенного (в первую очередь сословного) статуса.
Во времена Токугава не существовало жесткой официальной религиозной ортодоксии (ни буддийской, ни синтоистской). Жители лишились свободы посещать буддийские храмы полюбившихся им школ (а их существовало множество). Они были «механически» приписаны к ближайшему буддийскому храму, который превращался в одно из подразделений административного аппарата. Так, в его функцию входила регистрация рождений и смертей, выдача справок о том, что прихожанин не является приверженцем христианства (такая справка требовалась при отправлении в далекое путешествие — по бытовым, торговым или паломническим делам). Иными словами, у человека в значительной мере отсутствовала свобода религиозного выбора, что до известной степени снимало разногласия между отдельными вероучениями, вытесняя чисто теологическую полемику на обочину интеллектуальной жизни. Вместе с тем это еще больше привязывало человека к месту проживания (рождения), усиливало «комплекс оседлости».
Запрет на изменение сословного состояния, создание крестьянских пятидворок с их принципом круговой поруки и коллективной ответственности (за недоимки, преступления, организацию общественных работ и т. д.) подкреплялись подробнейшей регламентацией жизни всех сословий. Социальные роли были разработаны с пугающей детализацией: регламентации подвергались одежда, прически, еда, размер и устройство жилища, материалы для его постройки, способы передвижения (простолюдинам запрещалось путешествие в паланкине), формы публичного поведения (поклоны, приветствия, этикетность устной и письменной речи, самурайские самоубийства и т. д.). Даже руки преступникам высокого положения и простолюдинам завязывали по-разному. Общество и государство этого времени были выстроены в соответствии с казарменными идеалами военного человека. И такое положение вещей японцы воспринимали как культурную норму. Отсутствие тех или иных правил в других странах казалось им отклонением от «культурности». Узнав от плененного в 1811 г. капитана Головнина (1776—1831) о том, что прически в России не определены законом, «японцы засмеялись, немало