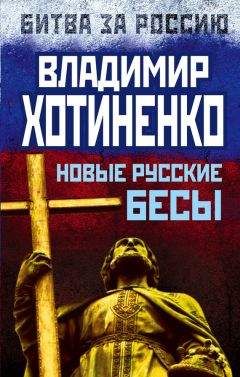безответной, несчастной Сони Бородиной. Загнанная в тупик, в западню, она отваживается на страшный грех. Рисковать жизнью троих детей — падчериц, поджечь дом и оставить вместо семейного очага пепелище, лишь бы покрыть огнем растраченные на ветер деньги, лишь бы отомстить своему пар тийному любовнику Кречеву, застигнутому пожаром в ее до ме, — это и есть воспринятая Соней удобная и прилипчивая формула: цель оправдывает средства. Вседозволенность как норма общественного и личного поведения развращает душу, дает выход самым низменным побуждениям. И на том языке, которым испокон веку говорили тихановцы, это называлось обычно — отдать душу дьяволу… «Запуталась я совсем, завертелась», — думает про чертову ка русель своей жизни Соня. Страшно, если можно своей рукой поджечь дом, где спят дети, и эта рука не дрогнет. Страшно той бездны, в которую толкает человека адская круговерть. Страшно и почти невозможно человеку оставаться человеком в обстановке расчеловечивания. «Мстительное чувство словно пожаром охватывало ее душу, и, распаляя себя все больше и больше, она испытывала теперь какое-то знойное наслажде ние от того, что она, маленькая и слабая, которую брали только для прихоти, рассчиталась с ними сполна, оставила всех в дураках». Разгромить все созданное своими руками, сжечь дотла и дом, и сад, и хлев, и скотину в хлеву, пустить на ветер добро (то есть нажитое добрым трудом) — этот соб лазн разрушительства, это «знойное наслаждение» мести испытывают многие тихановцы. Федор Звонцов, первоклас¬ cный мастер — золотые руки, хозяин и строитель, предает огню красавец дом с кружевными наличниками: «Злодеем обернулся для своей же скотины. Пришел, как вор, как душе губец, на собственный двор». Политика душегубства вовлека ет в душегубство всех. Палач и жертва меняются местами, ролями, добро и зло рискованно сближаются, путаются, при вычные понятия теряют смысл. «Оттого и бесы разгулялись, что такие вот беззубые потачку им дают, нет чтоб по рогам их, по рогам, — кричит в запале Федор Звонцов. — Да все пожечь, так чтобы шерсть у них затрещала… Глядишь — и провалились бы они в преисподнюю». И справедливые, горькие слова Черного Барина, Мокея Ивановича: «подымать руку на людское добро — значит самому бесом становиться» — тонут в яростном, гневном и уже непреодолимом порыве Федора. Занести руку на собственное добро, зверем побежать из родного села в лесную глушь, людей подбивать на злое
465
дело — другого выхода он не находит. «И свет белый станет не милым, и жизнь тягостной, невыносимой». Хроника тихановских событий запечатлела момент, когда человек, смущенный и соблазненный, теряя себя, переходит на сторону безумия, становясь его вольным или невольным со участником: «Поначалу никто не приставал к этой процессии (то есть к бригаде по раскулачиванию. — Л. С.)… Но вот Савка Клин отвалил от плетня и… пошел за ней, оглядываясь на соседей, и, как бы оправдывая это свое действие, пояс нял громко и виновато: — Может, обувка сносная найдется… Валенки или сапоги. Все одно — пропадут. Одни ворчали на него неодобрительно: — На чужое позарился? Ах ты, собака блудливая. Но другие вроде бы и оправдывали: — Отберут ведь… Все равно отберут. И все в кучу сва- лют. А там гляди — подожгут. Не пропадать добру-то». Скатерть-самобранка классовой борьбы момента «обостре ния», зазывающая на «пир труда и процветания», предлагала блюда с острой приправой; отведав их, человек терял и ап петит, и вкус, и чувство меры. Садиться за стол классовой борьбы эпохи ликвидации было опасно и страшно — от сидя щих рядом человек заражался злобой и одиночеством. При зывы и лозунги ликвидации, эти словесные образы безумия, вселяли ужас, сковывали благие помыслы и добрые движения души, наваливались и душили, как тяжелый, кошмарный сон, сеяли панику, рождали тревогу, будили страх. И никто не крикнул, не возразил… И никто из бедноты не засту пился. Тебя растопчут, растерзают на части, и никто не чихнет, не оглянется, пойдут дальше без тебя, будто тебя и не было… Злоба и «сумление» задушат каждого в отдель ности. И никто не остановил это позорище… Ставить свою подпись никто не поспешал… Этот «никто», как символ молчащей, запуганной, затрав ленной толпы, в которой не различить отдельного человека, как морок, как видение небытия, — лейтмотив романа, худо жественный образ сдачи и гибели русской деревни, призрак раз-общения людей. Грозные симптомы разрушения человеческого сознания, распадения души, преступления нравственной нормы исследо ваны в романе Можаева применительно ко всем, без исклю чения, лицам. Русская деревня в изображении писателя ока зывается индикатором процессов, происходящих в обществе,
466
ибо она концентрирует и обнажает во всей его подлинности самый дух эпохи. Перед «чертовой каруселью» оказываются в равной мере беззащитны все деревенские люди, они же — ее неизбежные жертвы. Поразительна художественная логика появления первой жертвы в Тиханове: ею оказывается Федот Клюев, лучший из лучших тихановцев, тот самый «сеятель и хранитель», неумолимой логикой событий превращающийся в убийцу. Ибо в запале, в озверении при попытке защитить сына, которому выкручивают, заламывают руки и который только что хотел вступиться за мать, он совершает убийство. Убитым же оказывается самый убогий, самый обманутый одно сельчанин, активист по раскулачиванию Степан Гредный — из тех, кто особенно надеялся на добычу со стола классовой борьбы. Первое же применение чрезвычайных мер в Тиханове сыграло свою провокационную роль: разыгранная по устано вочной схеме «вылазка классового врага» дала веский довод в пользу курса на «обострение». Именно после этого эпизода, раскатав в пух и прах Федота Клюева вместе с сыном, продав их добро с молотка за бесценок, активисты «обострения» сняли иконы вместе с божницей, раскололи в щепки и сожгли на глазах у всего народа. «Народ ноне осатанел совсем», — сокрушенно и тоскливо винятся тихановцы. «Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло». Евангельский сюжет исцеления человека переосмысляется в романе Можаева парадоксально и фантасмагорически. Миф и метафора как бы оживают в детальных бытовых образах и получают воплощенное физическое бытие — с беспреце дентными ранее условиями существования и для людей, и для свиней. Миру деревенских суеверий о ведьме Веряве, что оборачи вается свиньей и бросается под ноги обозу, пришел конец. Укладу «окостенелого домостроя и дикости» объявлена тоталь ная война, текущий момент которой — «беспощадное выкола чивание хлебных излишков из потаенных нор двуногих сус ликов». Грядущая уравниловка чревата последствиями еще не ведомыми: «— Ты видел, как в свинарниках свиньи живут? Когда кормов вдоволь, еще куда ни шло. А чуть кормов внатяжку, так они бросаются, как звери. Рвут друг у друга из пасти. А то норовят за бок ухватить друг друга или ухо оттяпать…
467
человек зарится на чужое хуже свиньи… Еще похлеще свиней начнете рвать все, что можно». Время свободных пастухов и свободно пасущихся сви ных стад на глазах тихановцев прекращает свое течение. Свиньи, так же как и люди, подпадают под строгий учет. Вслушаемся — с точки зрения евангельского мифа — в речь Возвышаева: «Вольная продажа скота у нас в районе запре щена… Палить свиней запрещено!.. С завтрашнего дня всех свиней поставить на учет. И ежели кто не сдаст свиную шку ру — отдавать под суд… Проверьте всю наличность свиней… Если будет обнаружена утайка лишних голов, накажем со всей строгостью, невзирая на лица…» И начинается варфоломеевская ночь для свиней. В бе зумии, в спешке и суете, в панической суматохе люди ищут резаки, колуны, топоры и кинжалы, уничтожая следы свиного поголовья. За ночь стадо свиней — семьдесят четыре головы — гибнет от рук обезумевших людей, и первый свиной визг, предваряя жуткую какофонию резни, по иронии судьбы разда ется на подворье председателя Совета. За жизнь свиней, за голову каждого поросенка объявляется выкуп — денеж ный штраф в пятикратном размере, к забойщикам скота применяются чрезвычайные меры, резня скота грозит переки нуться на людей. Запах паленой щетины, сладкий душок прижаренного сала, соленое, копченое, мороженое мясо — отныне этим и только этим может обернуться жизнь каждой свиньи. А когда ветеринары открыли новую болезнь — «свиную рожу» («по причине которой разрешалось не только забивать скотину, но и палить свинью, дабы при снятии шкуры не заразиться»), было предрешено не только настоящее, но и будущее свиных стад. Назначенный на 20 февраля 1930 года конец света, или сплошной колхоз, знаменуется лозун гом: «Все, что ходит на четырех ногах, будет съедено». Все, что появлялось на крестьянском дворе, попадало в опись и подлежало налоговому обложению, а значит, грозило хозя ину немалыми бедами. За каждую живую свиную голову он рисковал собой. Жизнь свиней была обречена на много поко лений вперед; исцеление взбесившегося человека по евангель скому образцу становилось весьма и весьма проблематич ным. ЧТО СЧИТАТЬ ЗА ПРАВДУ Куда деваться в этой адской круговерти простому мужику, поильцу и кормильцу? Что делать ему, когда воинствующая и торжествующая политика ликвидации лишает его человечес-