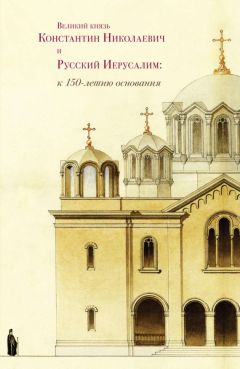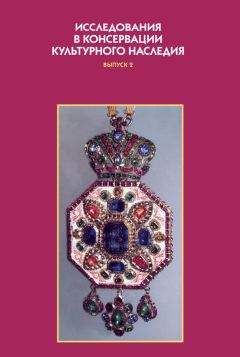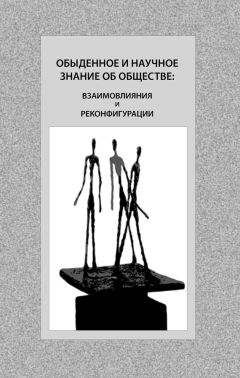Ознакомительная версия.
* * *
Как упорна она, как давно
Мысль простейшая бьется во мне:
Я – никто. Я – лишь только окно.
Я – пробоина в твердой стене.
Только плотность стены прорубя,
Только после великих потерь
Понимаю: я – выход в Тебя,
Я – к Тебе приводящая дверь.
С целым миром окончился спор.
Я – никто. Обо мне позабудь.
Я есмь вход в бесконечный простор.
Только вход, только дверь, только путь.
2
Как часто наш рассудок пытается извлечь практическую пользу из того, чему сердце позволило просто быть, чему сердце не стало назначать цену, а вместило целиком и без условий. Непонимание между людьми на уровне мировоззрений, как дверей закрытых и даже заколоченных, должно восполняться художественной интуицией, чувством красоты, которое распахивает все двери запирающегося ума. И хотя чувство красоты – редкий дар, его можно и нужно развивать в себе. В статье «Устами поэта» Григорий Померанц писал: «Опыт суфийской поэзии, более тысячи лет жившей рядом с догматическим исламом, то сталкиваясь с ним, то заключая мир, заставляет думать, что поэтический путь к Богу никогда не станет всенародным. Для этого нужна поэтическая одаренность (…) Тождество поэзии с откровением всегда находило страстных последователей, и я не думаю, что они когда-нибудь исчезнут. В поэзии религиозного созерцания тонет несовместимость религиозно-философских и богословских систем. В ней рождается чувство, что любая человеческая речь, подсказанная Богом, – только перевод с божьего на человеческий; и поэтический перевод лучше, чем логически правильный подстрочник, ближе к подлиннику, недоступному человеческому уму. Родство мистической поэзии, мистического искусства разных культур становится прообразом родства великих религий…»[530]
На вопрос, кто из пророков донес до нас слово Творца правдивее, рассудок ответит так, как выгодно человеку – иудею, христианину, мусульманину, а сердце на этот вопрос ответит так, как угодно Богу. А Богу угодно соединять, а не разъединять. Да и человек призван соединять. Великий шейх суфизма Мохиддин Ибн Араби так писал о человеке: «Человек занимает ступень всеохвата и собирания бытия»[531]. И ни одному ангелу не постичь устройство этой ступени. Ибн Араби, по сути, вторя Ибн Аль-Фариду, говорит о том, что если бы Иов стоически удержался от мольбы и жалобы, то тем самым он бы оскорбил Бога непроницаемостью своего сердца. Не только человеку нужен человек, но и Богу нужен человек, потому что Бог сотворил Адама, как пишет суфий, обеими руками.
Зинаида Миркина – непревзойденный переводчик суфийской поэзии. Философия суфизма никогда не порывала с поэтической традицией, которая жива иносказанием. Приведем строки из «Большой касыды» Ибн Аль-Фарида в переводе Миркиной.
Прямые речи обратятся в ложь,
И только притчей тайну сбережешь.
И тем, кто просит точных, ясных слов,
Я лишь молчанье предложить готов.
Я сам, любовь в молчанье углубя,
Храню ее от самого себя,
От глаз и мыслей и от рук своих, —
Да не присвоят то, что больше их:
Глаза воспримут образ, имя – слух,
Но только дух обнимет цельный дух!
Снова обратимся к исламскому богослову XII–XIII вв., крупнейшему теоретику суфизма Ибн Араби. Вот как он размышляет о Боге. «Он описал нам Себя через нас: видя Его, мы видим души свои, а видя нас, Он видит Себя Самого». Ибн Араби идет еще дальше. Он пишет, что человек «для Бога то же, что зрачок для глаза: зрачок осуществляет созерцание, называемое зрением. Вот оно и было названо человеком, ибо им Бог созерцает Свое Творение и потому ниспосылает ему Свою милость»[532]. Откровение исламского богослова сродни откровению немецкого мистика Мейстера Экхарта. Экхарт писал: «Глаз, которым я вижу Бога, – это тот самый глаз, которым Бог видит меня…»[533] Воззрения крупнейшего христианского мистика очень близки японскому мастеру дзен Дайсэцу Судзуки, в чем Судзуки не однажды признавался. И именно через труды Мейстера Экхарта и проникновенное слово американского монаха Томаса Мертона Судзуки открывает для себя христианство. И как здесь не вспомнить Тагора, сказавшего о Боге: «Ты невидим, потому что Ты – зрачок моего глаза»[534]. Китайский философ IV–III вв. до нашей эры Мэн-цзы, представитель конфуцианской традиции, высказывал сходные с Ибн Араби, Экхартом и Тагором мысли: «Кто познает свою природу, познает Небо»[535]. Иными словами, кто открывает глубины своего сердца, тот познает Бога. Метафора Ибн Араби, Мейстера Экхарта и Тагора очень близка Миркиной.
Это Ты во мне видишь,
Это Ты во мне любишь,
Ты покоишься, внидя
В безымянные глуби.
Ты не можешь предстать
Ни на миг, как виденье.
Как Тебя увидать? —
Ты и есть мое зренье.
Мир на части рубя,
Не добьёшься познанья.
Как дышать без Тебя,
Когда Ты есть дыханье?
Мир сей тайной набух,
В нем присутствует Дух…
Глубины мировых религий находятся в беспрестанной дружественной перекличке. Об этом убедительно говорят Григорий Померанц и Зинаида Миркина в их общей монографии «Великие религии мира»[536].
Переводчики с божественного языка на человеческий узнают друг друга по той музыке, корень которой сокрыт от зрения и слуха. Именно через пророков перекликаются эпохи, культуры и вероисповедания. Через пророков и через поэтов. Но сами пророки уже давно не называют себя пророками. Да и не каждый стихотворец посмеет назвать себя поэтом. Ибн Араби, обращая свою молитву к Богу, так говорит о ниспосланной ему благодати: «…только Им был в трудах я своих вдохновляем, и нет в сих строках ничего сверх Его откровения, хотя я не пророк и совсем не посланник, а просто верный наследник…» Суфий скромно говорит о себе как о «верном наследнике». Даниил Андреев в «Розе мира» называет подобную преемственность вестничеством. «Вестник – это тот, кто… дает людям почувствовать сквозь образы искусства высшую правду и свет, льющийся из иных миров»[537]. Видимо, так и нужно называть тех творцов, в художественном и мистическом опыте которых нет ничего сверх откровения Господа, – наследник, вестник. Термины «медиум», «транслятор», «спиритуализм», которые использовал литературовед Мраморнов при анализе творчества Миркиной, здесь едва ли уместны. Они объективно далеки от сути явления. Так же теряет всякий смысл разговор о пресловутой гениальности пишущего, если она приписывается себе и возвеличивает человека, а не Бога – истинного создателя, Которому мы обязаны быть сотворцами.
Гения Создатель судит строго,
Снисхожденье напрочь отрубя.
Гениальность – послушанье Богу
Вплоть до отвержения себя.
Полного – и никакой досады.
Ни малейшей жалобы судьбе.
Мне себя уже совсем не надо.
Богу я служу, а не себе.
Все таланты и ума палата —
Лишь дрова для Божьего огня.
Вот тогда-то, только лишь тогда-то
Будет Бог творить через меня.
И не будет никаких сомнений —
Несомненность полнобытия.
Гений я или совсем не гений —
Безразлично. Действую – не я.
Поэтический словарь Миркиной беден, но лишь потому, что она не пытается понравиться ни эпохе, ни самой себе. Она не меняет наряды и темы в зависимости от того или иного периода творчества. Она не драпирует своего лирического героя в одежды, по которым мы узнаем его в толпе других лирических героев. Ни ей, ни Богу не нужно выхлопотанного любой ценой внимания. Тот, кто начнет сравнивать вкус и вес ее словаря со словарем другого поэта, едва ли что-то поймет, потому что привык ожидать от слов всего чего угодно, только не их отсутствия. Разумеется, это метафора. Слова есть, конечно, но они стремятся как бы сойти на нет, чтобы освободить место чему-то большему, чем любые слова. И мир, выступающий из них, проступающий сквозь них, прежде всего мир природы. Этот мир живет на глубине ее духа так полно, как творение в присутствии Творца. Мир этот не пленяет наше воображение подробностями и деталями, прихотливыми завитками рассеянной мысли, но захватывает своей таинственной целостностью.
Я с деревьями вместе расту.
Вот и все, что мне нужно сейчас.
Набирает душа высоту
Каждый миг, незаметно для глаз.
Снега первого тоненький слой
Покрывает ноябрьский лес.
Я плыву вместе с тихой землей
В бесконечном пространстве небес,
И вплывают в земное окно
Дальних звезд голубые огни.
Одиночество сердцу дано
Чтоб почувствовать – мы не одни.
Разве можно так просто говорить о самом главном? Вопрос этот вполне правомочен, но абсолютно безжизнен. А для чего о самом главном говорить по-другому? Вестник призван донести весть. У вестника нет второй жизни, чтобы разделить с веком его духовные недуги. В «Сонетах к Орфею» Райнера Марии Рильке в переводе Миркиной есть такие строки: «В разброде чувств, в раздробленности мира / Не служат Фебу и не строят храм»[538]. Вестник и есть тот, кто строит невидимый собор, кто является прихожанином невидимой церкви. Адамович пишет, что никто теперь уже не истолкует физически, материально слова о том, что человек создан по образу и подобию Божьему. Затем он излагает свое понимание этой истины. «Все, что человек в себе угадывает, все, что находит в себе верного, непреложного, несговорчивого, окончательного, неустранимого после того, как перестал он играть с собой в прятки, все, что мы называем совестью, во всех смыслах, даже и в эстетическом, и что в нас большей частью дремлет, – а если случается, и очнется, то, наглотавшись разнообразных житейских наркотиков, тут же засыпает снова, – все это и есть “образ и подобие”»[539]. Развивая мысль Адамовича, можно сказать так: то, что в нас большей частью дремлет, в вестнике большей частью бодрствует. Вестнику знакома человеческая слабость, минутная растерянность, знает он и «чугунных дней немую череду», но потаенные струны его существа всегда готовы к удару по ним незримой руки.
Ознакомительная версия.