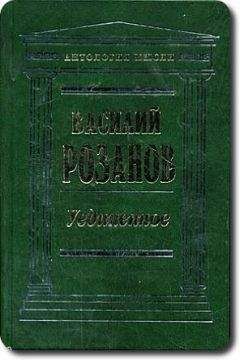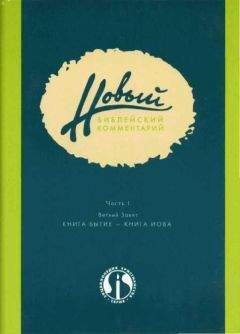Напротив, оба другие писатели, которые до тех пор несколько заслонялись Тургеневым, заговорили с силою, как никогда прежде, и голос их зазвучал противоречиво всему, чего хотело общество и что оно думало. И если нужно в истории искать примера, где значение и влияние личности было бы несомненно и отчетливо видно, ясно, — то нельзя найти лучшего, как в последнем фазисе деятельности этих двух писателей. В самый разгар увлечения внешними реформами, в минуту безусловного отрицания всего внутреннего, религиозного, мистического в жизни и в человеке, они отвергли, как совершенно незначащее, все внешнее, — и обратились к внутреннему и религиозному. И общество, сперва удивленное и негодующее, но и очарованное их словом, вначале поодиночке и потом массами, точно поволоклось ими в противоположную сторону, чем куда шло; в жизни его совершился перелом, и мы стоим теперь на совершенно иных путях, нежели те, на каких стояли еще так недавно.
В «Анне Карениной» с недосягаемым совершенством формы соединилось глубокое и строгое содержание. Более, нежели в «Войне и мире», над всеми группами выведенных лиц здесь господствует мысль художника, это теснее сжимает их и придает всему произведению больше единства и цельности. Группы и сцены менее широко разбрасываются, не так свободно живут, все устремляется как будто к одному невидимому центру, который впереди. Взамен эпического спокойствия, которое царит в «Войне и мире», придавая всем событиям и лицам этого романа размеренную неторопливость, в «Анне Карениной» мы ощущаем присутствие чего-то встревоженного и ищущего. Это сообщает всему произведению лиризм. Оставляя «Войну и мир», читатель испытывает ясное удовлетворение; напротив, окончив «Анну Каренину», он чувствует себя встревоженным и смущенным. Ощущение горести, душевного ужаса, ненависти к жизни и жалости к судьбе человека — все это смешивается в нем, становится невыносимо; и, не имея силы бороться с собою, он ищет помощи у великого художника, который так возмутил его покой. И этот последний не заставил долго ожидать своего слова; «Анна Каренина» оказалась только великим прологом к учению, которое то прямо, то в аллегориях вот уже десять лет развивает ее автор. Переходя от сомнения к вере и из веры падая опять в сомнение, твердый только в отрицаниях и колеблющийся в утверждениях, он всем рядом своих последних трудов как бы олицетворяет ищущий разрешения скептицизм: «Что я верю в какого-то Бога, это я чувствую; но в какого Бога я верю — вот что темно для меня», — как будто говорит он всем смыслом своих последних трудов.
Резко отличаясь по форме, растянутый, эпизодический, роман Достоевского глубоко однороден с «Анной Карениной» по духу, по заключенному в нем смыслу. Он также есть синтез душевного анализа, философских идей и борьбы религиозных стремлений с сомнением. Но задача взята в нем шире: в то время как там показано, как непреодолимо и страшно гибнет человек, раз сошедший с путей, не им предустановленных, здесь раскрыто таинственное зарождение новой жизни среди умирающей. Старик Карамазов — это как бы символ смерти и разложения, все стихии его духовной природы точно потеряли скрепляющий центр, и мы чувствуем трупный запах, который он распространяет собою. Нет более регулирующей нормы в нем, и все смрадное, что есть в человеческой душе, неудержимо полезло из него, грязня и пачкая все, к чему он ни прикасается. Никогда не появлялось в нашей литературе лица, для которого менее бы существовал какой-нибудь внешний или внутренний закон, нежели для этого человека: беззаконник, ругатель всякого закона, пачкающий всякую святыню, — вот его имя, его определение. Наше общество, идущее вперед без преданий, недоразвившееся ни до какой религии, ни до какого долга и, однако, думающее, что оно переросло уже всякую религию и всякий долг, широкое лишь вследствие внутренней расслабленности, — в основных чертах верно, хотя и слишком жестоко, символизировано в этом лице. Вскрыта главная его черта, отсутствие внутренней сдерживающей нормы, и, как следствие этого, — обнаженная похоть на все, с наглой усмешкой в ответ каждому, кто встал бы перед ним с укором. Среди зловония этого разлагающегося трупа возрастает его порождение. Между всеми четырьмя сыновьями его можно найти внутреннее соотношение, которое подчинено закону противоположности. Смердяков, этот миазм, эта гниющая шелуха «павшего в землю и умершего зерна», есть как бы противоположный полюс чистого Алеши, который несет в себе новую жизнь, подобно тому как свежий росток выносит из своей темной могилки на свет солнца жизнь и закон умершего материнского организма. Тайна возрождения всего умирающего прекрасно выражена в этом противоположении. Третий сын, Иван Федорович, сдержанный и замкнутый, представляет собою противоположность Димитрию, раскидывающемуся, болтливому, несущему в себе добрые стремления, но без какой-либо нормы, — тогда как эта норма в высочайшей степени сосредоточена в Иване. Как Димитрий тяготеет к Алеше, так у Ивана есть нечто связующее и общее со Смердяковым. Он «высоко ценит» Алешу, но, конечно, — как свою противоположность, и притом равносильную. Но с Димитрием у него нет ничего общего; все отношения этих двух братьев чисто внешние, и это важнее, чем то, что они в конце становятся даже враждебными. Напротив, со Смердяковым у Ивана есть что-то родственное: они с полуслова, с намека понимают один другого, заговаривают так, как будто и в молчании между ними не прерывалось общение. Их связь, таким образом, несомненна, как и связь Алеши с Димитрием. И как в Алеше выделилась в очищенном виде мощь утверждения и жизни, так и в Иване в очищенном же виде сосредоточилась мощь отрицания и смерти, мощь зла. Смердяков есть только шелуха его, гниющий отбросок, и, конечно, зло, лежащее в человеческой природе, не настолько мало, чтобы выразиться только в уродстве. В нем есть сила, есть обаяние, и они сосредоточены в Иване. Димитрию суждено возродиться к жизни; через страдание он очистится; он, уже только готовясь принять его, ощутил в себе «нового человека» и готовится там, в холодной Сибири, из рудников, из-под земли, запеть «гимн Богу». Вместе с очищением в нем пробуждается сила жизни: «В тысяче мук — я есмь, в корче мучусь — но есмь»[46], - говорит он накануне суда, который, он чувствовал, окончится для него обвинением. В этой жажде бытия и в неутолимой же жажде стать достойным его хотя бы через страдание опять угадана Достоевским глубочайшая черта истории, самая существенная, быть может центральная. Едва ли не в ней одной еще сохранился в человеке перевес добра над злом, в которое он так страшно погружен, которым является каждый единичный его поступок, всякая его мысль. Но под ними, под всею грязью, в тине которой ползет человек целые тысячелетия, неутолимая жажда все-таки ползти и когда-нибудь увидеть же свет — высоко поднимает человека над всею природою, есть залог неокончательной его гибели среди всякого страдания, каких бы то ни было бедствий. Здесь и лежит объяснение того, почему с таким содроганием мы отвращаем лицо свое при виде самоубийства, отчего оно кажется нам сумрачнее даже убийства, нарушает какой-то еще высший закон, — и религия осуждает его как преступление, которого нельзя искупить. С рациональной точки зрения мы должны бы относиться к нему индифферентно, предоставляя каждому решать, лучше ли ему жить или не жить. Но общий и высший закон, конечно мистического происхождения, принудительно заставляет нас всех — жить, требует этого как долга, бремени которого мы не можем сложить с себя. Если Димитрий Карамазов, порочный и несчастный, возрождается к жизни вследствие того, что в основе его все-таки лежит доброе, — то Иван, которому извне открывается широкий путь жизни, несмотря на высокое развитие, несмотря на сильный характер, все-таки стоит при начале того уклона, по которому скользнул и умер Смердяков. Мощный носитель отрицания и зла, он долго и сильно будет бороться со смертью, этим естественным выводом из отрицания; и все-таки вечные законы природы преодолеют его мощь, силы его утомятся, и он умрет так же, как умер Смердяков.
Поразительны последние дни этого четвертого брата, переданные в первом, втором и третьем свиданиях с ним Ивана. Мы и здесь, как в «Преступлении и наказании», каким-то особым приемом, тайна которого была известна только Достоевскому, опять погружаемся в особую психическую атмосферу, удушающую, темную, — и, еще ничего не видя, еще не дойдя до самого факта, испытываем мистический ужас от приближения к какому-то нарушению законов природы, к чему-то преступному; и уже содрогаемся от ожидания. Эта ненависть, с которою он смотрит теперь на Ивана, внушившего ему, что «все позволено»; эта книга «Иже во святых отца нашего Исаака Сирина», сменившая под его подушкою французские вокабулы, и какие-то припадки исступления, о которых передает встревоженная хозяйка, хотя мы сами не замечаем в нем ничего особенного; наконец, эта пачка бумажек, которую он тащит у себя из-под чулка, а Иван дрожит, еще не зная — отчего, и пятится к стене; и самый рассказ о том, как совершилось убийство, с этою беспричинною боязнью жертвы к своему убийце, к своему незаконному сыну и доверенному лакею, к малосильному трусу и идиоту — все это поразительно, тягостно до последней степени и еще раз вводит нас в мир преступности. Замечательно, что как закон природы, нарушенный здесь, выше, чем тот, который нарушен в «Преступлении и наказании», так и атмосфера, окружающая преступника, как-то еще удушливее и теснее, нежели та, которую мы ощущаем около Раскольникова. Вот почему последний не наложил на себя рук; ему еще было чем жить, и через несколько лет искупления, он вышел же из своей атмосферы к свету и солнцу. Смердякову нечем было жить; и хотя и для него, может быть, было где-нибудь солнце и свет, но совершенно ясно, что он не мог дойти до них и упал при первых же шагах задушенный. Последнее его прощание с Иваном, отдача ему денег, из-за которых совершилось убийство, слова о Провидении — все это вводит нас в душу человека в последние часы перед самоубийством: тайна, еще никем не изображенная, никому из живых не переданная.