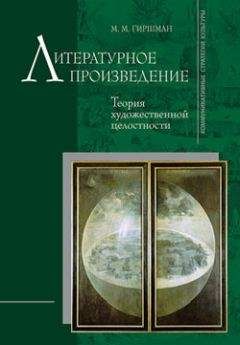Ознакомительная версия.
Таким образом, противоположным полюсом, обращенным к хаосу, является не гармония в стихийных спорах природы или гармония в человеческой душе – «жилице двух миров», где она оказывается невозможной и неосуществимой. Внутренне противостоит и «обращается» к хаосу красота-гармония поэтического целого, в котором только она и существует как эстетическая реальность. Красота-гармония так же, как прародимый хаос-мир, содержит в себе и весь порядок, и весь беспорядок, но с иным созидательно-спасающим акцентом, будучи эстетическим оправданием хаоса и / или его творческим преображением. Конечно, совмещение противоречий сохранятся и здесь, и в еще большей степени именно в красоте проясняется средоточие совмещения и общения этих противоположностей – человеческая личность.
Тютчевское поэтическое «бытие-общение» проясняет в качестве своего центра созерцающее сознание с его «бессильным ясновидением» и поэтической силой его совершенного осуществления в слове: «прародимый хаос», хаос-мир преображается и осуществляется как «гармоническая мысль» – красота мыслящего человека. На границе предельно разделенных и столь же предельно взаимообращенных друг к другу миров: эстетической завершенности поэтического целого и незавершенного события «действительного единства бытия-жизни» 7 – формируется культурная среда, «почва», на которой может произойти событие рождения мыслящей личности.
1. Соловьев B. C. Поэзия Ф. И. Тютчева // Соловьев B. C. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 475.
2. См.: Чумаков Ю. Н. Принцип «перводеления» в лирических композициях Тютчева // Studia metrica et poetica: Сб. статей памяти П. А. Руднева. СПб, 1999. С. 118—130.
3. Литературное наследство. Т. 97. Ф. И. Тютчев. М., 1988. Кн. 1. С. 38.
4. Эйхенбаум Б. М. Письма Тютчева // Эйхенбаум Б. М. Сквозь литературу. Л., 1924. С. 53.
5. Соловьев B. C. Поэзия гр. А. К. Толстого// Соловьев B. C. Философия искусства и литературная критика. С. 489.
6. Толстовский ежегодник. М., 1912. С. 146.
7. Бахтин М. М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. 1984—1985. М., 1986. С. 95.
Стиль и поэтическое словообразование в лирике Тютчева
Развивая представление о стиле как способе эстетического бытия творческой индивидуальности, способе бытия человека-автора в его художественном создании, можно утверждать, что в стиле достигается гармония авторства и человечности или природы творящей и природы сотворенной. Потому-то при встрече со стилем испытываешь удивление, о котором писал Б. Паскаль: «…рассчитывал на знакомство только с автором, а познакомился с че-ловеком» 1 . С другой стороны, человек в стиле (или стилем) самоосуществляется, достигая «высшей ступени, которой искусство может достичь» 2 или, – используя еще одну вариацию на темы Гете, – творя вторую природу, созданную из мысли и чувства, человечески завершенную.
В искусстве слова эта человечески-завершенная высшая ступень, которой искусство способно достичь, на мой взгляд, может быть конкретизирована с помощью уже упоминавшейся аналогии А. А. Потебни: аналогии слова и поэтического произведения. Высшей ступенью, которой искусство может достичь, становится творческое создание произведения как нового индивидуально сотворяемого слова, впервые называющего то, что до этого не имело имени. Стиль в этом смысле реализуется настолько, насколько создание произведения может быть рассмотрено как поэтическое словообразование, в котором, как писал Г. О. Винокур (а его труды имеют первостепенное значение для конкретизации той идеи поэтического словообразования, о которой идет речь), «язык как бы весь опрокинут в тему и идею художественного за-мысла» 3 . Язык обращается в единственно возможную форму словесно-художественного бытия, становится плотью и ликом художественного мира – словотворения, в котором живет творец.
В предшествующих разделах подробно анализировались некоторые примеры тютчевского поэтического словообразования, «собирания мира» в тютчевских словах: изобразится («Последний катаклизм»), хаос – мир («О чем ты воешь, ветр ночной»), бездна – мир («День и ночь»). Один из основных признаков этих личностно-стилевых слов – неотрывность их семантических центров и смысловых перспектив от звукового и акцентно-силлабического строения. «Вещество слова у Тютчева как-то одухотворяется, становится прозрачным», – писал И. С. Аксаков 4 . Действительно, в этой «прозрачности» смысл звучит, а звуковой комплекс оказывается не обозначением, а, как говорил тот же Аксаков, «плотью мысли» или, точнее, плотью смыслообразо-вания. Здесь не готовое единство, а впервые происходящее воссоединение звука и смысла, что и позволяет говорить о новом слове-имени для того, что до этого имени не имело. И для создания такого нового слова-произведения поэту необходима обращенность ко всей полноте творческих возможностей языка.
Г. О. Винокур различал, с одной стороны, «словообразовательные цепи» общего языка, где «в словах с основой производной значение мотивировано значением соответствующей первичной основы», а с другой, – принципиально иные «словарные цепи» языка поэтического: в них значения отдельных слов могут предстать мотивированными, независимо от их словообразовательной формы, и именно как формы внутренние: поэтическое значение слова «рыба» мотивируется его прямым значением и т. д. Слова «старик», «рыба», «корыто», «землянка» – это слова разных словообразовательных цепей, но в тексте пушкинской сказки они, несомненно, составляют отдельные звенья одной и той же словарной цепи, так как объединены своими вторыми поэтическими значениями" 5 .
В движении же стихотворения «День и ночь», которое анализировалось выше, по мере того, как вроде бы совершенно случайные звуковые связи предстают все более и более мотивированными, словарная и звуковая цепь приобретает качества цепи словообразовательной. В свете финала проясняется значимость и начальных звеньев этой цепи: их образуют звучащий первый раз в зачине стихотворения звуковой комплекс «нами» в словосочетании "на мир" и повтор звуков этого комплекса в первых двух строках:
На мир таинственный духов,
Над этой бездной безымянной…
Но особенно интенсивно смыслообразующее суммирование всех звуковых и словесных связей концентрируется в завершении этой цепи: сначала в максимальном совмещении всего звукосмыслового символического комплекса «бездна-мир» в «нами», а далее в его звукосмысловом разделении в финальной строке: "Вот отчего нам ночь страш на".
Граница, на которой только и может существовать эта совмещающе-разделяющая финальная «точка» – это не преграда, а состояние сознания: возникающее понимание того, что «нет преград меж ей (бездной) и нами». Состояние мыслящего человека – это пограничное состояние, это не только отношения знания и осознанного незнания, веры и мучительного неверия, но и существование на их границе, причем существование с открытыми глазами, со способностью видеть и называть видимое и невидимое, знаемое и незнаемое своими именами.
Б . Я. Бухштаб отмечал, что «Тютчев любит состояния между светом и тьмой, теплом и холодом – состояния, как бы совмещающие противоположности уходящего света и надвигающейся тьмы» 6 . Характерно, что чуткий исследователь объединяет переход и совмещение, – это и есть осознание пограничного бытия-между или границы бытия. На этой границе порождается сознание истины, которая открывается человеку в большей степени, нежели открывается человеком. Такие отношения проявляющейся живой мысли проницательно описаны А. Фетом в интерпретации еще одного тютчевского финала: "Двустишие, которым заканчивается «Осенний вечер» (Что в существе разумном мы зовем / Божественной стыдливостью страданья … – М. Г.), – не быстрый переход от явления в мире неодушевленном к миру человеческому, а только новый оттенок одухотворенной осени. Ее пышная мантия только полнее распахнулась с последними шагами, но под нею все время трепетала живая человеческая мысль" 7 .
Единство перехода и совмещения позволяет, на мой взгляд, увидеть и некоторые моменты эволюции лирики Тютчева: предельно все в себе содержащий и совмещающий пограничный миг в позднем творчестве в большей мере наполняется переходностью, а бытие-между обретает свое наполнение и свои имена, например, между днем и ночью «день вечереет»:
День вечереет, ночь близка,
Длинней с горы ложится тень,
На небе гаснут облака …
Уж поздно. Вечереет день.
Кольцевой повтор с зеркальным отражением, перестановкой и ритмической выделенностью разнотипных вариаций Я 4 («день вечереет» —"вечереет день") наиболее очевидно формирует промежуток двунаправленного движения: день уходит и сохраняется. В этом промежутке появляется рифмующаяся с «днем» благодатная «тень» «волшебного призрака», звучат призывы и вопросы («Лишь ты, волшебный призрак мой, / Лишь ты не покидай меня!.. Кто ты? Откуда? Как решить, / Небесный ты или земной?»). Наконец, промежуток между днем и ночью, между небом и землей обретает финальную конкретизацию как некая возможность существования:
Ознакомительная версия.