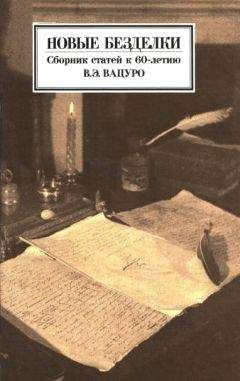В свете рассматриваемой проблемы Семен Сергеевич Бобров (1765–1810) был одним из наиболее любопытных поэтов русского предромантизма. Если эмблематическая поэзия стала идеальным языком описания регламентированного и стабильного мира эпохи Просвещения, то переход к романтизму был ознаменован мировоззренческим переломом, резко изменившим картину мира и требовавшим нового условного языка. Этим новым языком или, если обратиться к терминологии В. М. Жирмунского, «основным приемом романтического преображения мира»[176] становится метафора.
Поэзия Семена Боброва стала поэзией слома эпох, запечатлев момент, когда устоявшийся язык культуры XVIII в. и зарождающийся язык романтизма, причудливо сливаясь, сосуществуют в рамках единой художественной системы, динамичной и разнородной, и в этих своих качествах более всего приближающейся к эстетике барокко. Это и становится тем культурным кодом, который определяет специфику метафорического строя поэзии С. Боброва.
Художественная фактура бобровских текстов оставляет ощущение взрыхленной обнаженной породы (ощущение, которое современники Боброва выразят словами «незрелый» и «дикий»). Однако именно эта «обнаженность» позволяет в деталях рассмотреть поэтическое новообразование и попытаться воссоздать процесс формирования нового поэтического языка. Эмблема в поэтике Боброва — система изобразительных штампов, которым он следует в одних текстах и разрушает или подвергает глубокой деформации в других. Этот второй тип текстов и станет объектом нашего рассмотрения.
Между тем, как известно, один метафорический текст не равен другому: разница будет определяться типом культурного кода, лежащего в основе той или иной метафорической системы. Если эмблема сохраняет свою структурную и семантическую основу при переходе из одного культурного текста в другой, то состав метафоры (предмет описания — язык описания) будет меняться в зависимости от типа кодирующей системы. Так, одно из главных отличий бобровской предромантической метафорики от одической метафорики ломоносовского типа будет заключаться в том, что Ломоносов не нарушает нормативной условности одического мира, напротив, он сгущает ее, возводит в еще более высокую степень условности. Именно этот прием и вызвал в свое время столь бурную реакцию Сумарокова. О стихах Ломоносова:
Когда от радостной премены
Петровы возвышали стены
До звезд плескание и клик —
Сумароков пишет: «Не стены возвышают клик, но народы. Говорится весь град восклицает, вся страна и вся земля восклицает. Под именем града я разумею граждан, под именем страны разумеются народы, живущие в ней, а под именем стен я одни кирпичи разумею»[177]. Характерно, что Сумароков выступает не против условности вообще, но за соблюдение определенной меры этой условности. Ломоносов же пренебрегает именно мерой. Логика его такова: если возможна метонимическая замена граждан городом, а города — его стенами, то почему невозможна замена граждан, минуя связующее звено, также стенами города? Еще более сложная «пирамида» образуется при замене метонимического ряда близкими по смыслу эмблематическими символами, такими, к примеру, как венец вместо кремлевских стен и далее — увенчанная глава Москвы вместо пространства Кремля, ими окруженного:
Москва, стоя в средине всех <городов. — Л.З.>,
Главу, великими стенами
Венчанну, взносит к высоте.
(Ломоносов)
Обе ломоносовские цитаты — примеры возведения одного мотива (воодушевление и ликование народа) в разные степени условности. Однако если в первой цитате на присутствие этого мотива еще указывает оставшаяся от него метонимия «плескание и клик», то в цитате о Москве вычитать его уже практически невозможно. Требуется определенное владение ломоносовским одическим кодом, чтобы из недр этой развернутой аллегории извлечь исходную конструкцию:
Этот столь часто встречающийся в одической поэзии XVIII в. образ восходит к распространенному в европейской эмблематике изображению города в виде человеческой фигуры с короной городских стен на голове (см. позднеримские и раннехристианские скульптурные изображения городов в экспозиции Британского музея или аллегории Флоренции и Лиона в картинах Рубенса «Рождение королевы» и «Город Лион встречает королеву»). В сюжетах Рубенса реального означаемого, т. е. панорамы города, мы не увидим. Ее заменяет тщательно выписанная человеческая фигура в одеянии, усыпанном геральдическими знаками города, и с венцом из городских стен на голове. Ломоносовская эмблематическая поэтика ориентирована именно на такого рода зрительный образ, который в поэтическом тексте перерождается в подобие «живой картинки», аллегорической инсценировки:
Москва едина на колена
Упав перед тобой стоит,
Власы седые простирает…
Известная ломоносовская метафора «Брега Невы руками плещут» — результат этого же аллегорического приема, все так же неприемлемого для Сумарокова и педантично «препарированного» им в одной из своих од: Бежит от всех сторон народ:
Брега людьми отягощении,
Торжественно шумящих вод.
Се Ангел! Россы восклицают
И воздух плеском проницают,
В восторге радости своей.
Между тем, как бы ни поучал один одописец другого, спор не выходил за пределы общей для обоих аллегорической поэтики. Законы ее в равной степени довлеют и Ломоносову, и Сумарокову. Смысл же выступлений последнего отчасти сводится к попытке отрефлектировать диапазон риторического приема — от смысловой матрицы до рафинированной аллегории, уже не содержащей в себе «примеси» реального означаемого. Такого рода аллегории и метафоры, как спонтанно возникающие образования, широко представлены и в одах Сумарокова. Достаточно вспомнить стих:
Дрожит орда, Стамбул бледнеет
И горда Порта каменеет,—
где персонифицированный образ города Порты настолько «свыкается» со своей «плотью» и «кровью», что один из его «забытых» видовых признаков (каменность) получает возможность использоваться не просто в переносном смысле, но в функции олицетворения.
Т. о., ломоносовская метафора возникает в результате метонимического умножения образа, предварительно проведенного через аллегорический или эмблематический код. Детонативный план в одах Ломоносова практически оказывается за кадром, содержание реализуется на метауровнях, в системе тропов и риторических фигур. Это и превращает в итоге ломоносовскую оду в «великолепную игру абстракциями» (Г. А. Гуковский)[178].
Структура бобровской метафоры, образующейся в результате разрушения эмблематического текста, принципиально иная. Хотя и она так же, как и любая другая метафора, может быть «раскручена» по степеням аналогии до исходного означаемого; в обратном же порядке умножение некоего исходного топоса по принципу подбора аналогий приводит к образованию метафоры. В метафоре С. Боброва меняется ее состав: набор слагаемых ассоциаций и принцип их подбора. Так, например, метафора «реющая полнощь» (II, 109) может быть рассмотрена как «последняя степень» следующей цепочки преобразований:
1. Аллегория ночи —
«…придавали ей крылья или изображали ее едущей в колеснице, держа над головой своею распростертое покрывало, усыпанное звездами»[179].
Ср.:
Волнисты облака, истканы из паров
Художеством драгим всесильная десницы,
Порфира у нее, достойная царицы,
Воскрилием своим касается земле.
(Ширинский-Шихматов)[180]
О нощь! — когда ты над холмами
Низпустишь черный свой покров,
И в славе выведешь над нами
Собор катящихся миров…
(III, 29)
2.
3.
4. Реющая полночь — синекдоха ночь → полночь приводит к разрушению аллегорической природы образа: из эмблематического контекста (крылья, колесница, покрывало) извлекается смысловой центр — фигура богини — и заменяется отвлеченным понятием, обозначающим время суток, которому приписывается однако, конкретное и наблюдаемое действие.
Тот же принцип лежит в основе более сложной метафорической конструкции:
С востока ночь бежит к нам с красными очами…
(III, 10)
Композиция ее восходит к сложившемуся в эмблематической поэзии XVIII в. клише: аллегорический персонаж — описание действия — символические атрибуты. Ср. с подобного рода «клише» в одах Боброва: