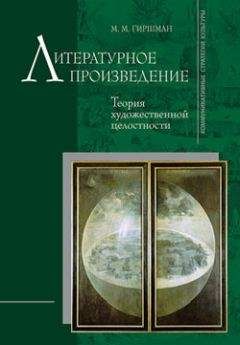Ознакомительная версия.
Понятно, что в такой системе координат эстетическая реальность либо вообще не существует, либо оказывается недопустимой натурализацией, одновременно и отождествлением, и – в силу невозможности такого отождествления – смешением природы и слова. А одним из критериев обнаружения той единственной реальности, о которой идет речь в статье А. Щербенка, может быть, например, заключение о том, насколько «мысли героя о правде и красоте в финале совпадают с мыслями самого Чехова» (с. 81). В этой логике «сам Чехов» – единственная реальность биографической личности, конструирующей или деконструирующей определенные, вне произведения находящиеся и в произведении передающиеся, выражающиеся или обозначающиеся значения-смыслы. В иной же системе координат, которая может быть этому противопоставлена не логически, а онтологически, «сам Чехов» – творец эстетической реальности, преображающей и реальность мыслей и чувств биографического А. П. Чехова, и реальность его физического, социально-психологического, культурного существования, и все то, что М. М. Бахтин называл «действительностью познания» и «действительностью поступка» 2 .
Интересно заметить, что борьба с «натурализацией» при отказе от эстетической реальности порождает иную «натурализацию»: вместе с монополией риторической функции появляется своеобразная натурализация авторского слова: вводная конструкция в финале рассказа: «ему было только 22 года» – рассматривается А. Щербенком как «прямое слово автора» (с. 82). В иной же логике, – и точнее опять-таки не логике, а онтологии, – возможность существования прямого слова автора-творца эстетической реальности по крайней мере проблематична: автор – творец всех образов: и того, о ком рассказывается, и того, кто рассказывает, и того, к кому этот рассказ обращен. А «ему было только 22 года» – это слова, сотворенного автором чеховского повествователя, соединяющего в своей позиции рассказ «в тоне и духе героя» и рассказ о герое.
Обращусь теперь непосредственно к полемике А. Щербенка с моей интерпретацией «Студента», в частности, финального ритмического синтеза и особой «гармонической стройности» рассказа: «Каков же статус этого финального синтеза? С точки зрения Гиршмана, он является выражением авторского хода мысли. Если на фабульном уровне мы наблюдаем повтор, а прозрение студента, вполне возможно, имеет временный характер, то на авторском уровне иллюзорность прозрения преодолевается. Ритмическая организация оказывается выражением „собственного глубинного хода жизни“ – идеи, которая в данном случае больше человека – ее носителя, Ивана Великопольского. Нетрудно заметить, что такой неожиданный прорыв на уровень авторской истины становится возможным только благодаря приданию ритмической гармонии, звуковой красоте абсолютного первичного статуса, что предполагает, в свою очередь, отказ от последовательно семиотического понимания языка, т. е. рассмотрения его как системы знаков и обозначений, а не как установленного набора смыслов. Если же мы вспоминаем, что благодаря этому как раз и доказывается абсолютный характер „правды и красоты, направлявших человеческую жизнь“, то порочный круг станет очевиден: чтобы рассуждения исследователя были правильны, мы сначала должны согласиться с его выводами» (с. 85—86).
В этой полемике предмет обсуждения одновременно и совпадает («ритмическая гармония», «звуковая красота») в то же время радикально различается: ведь я говорю не о логике взаимосвязи текста и внешней по отношению к нему реальности и не об «авторском ходе мысли», а о внутренне присущей произведению, творчески осуществляемой им реальности перехода слов о правде и красоте в красоту, существующую в слове. И это в системе координат того литературоведческого направления, которое я пытаюсь развивать, – не «установленный набор смыслов», а эстетическая реальность красоты, ничего вне себя не обозначающей, но только здесь, в мире произведения существующей и являющей союз истины и блага. Красота являет полноту бытия непредсказуемого, но содержащего смыслообразующую перспективу, которая включает в себя и иллюзорные прозрения, и реальные измены.
Пусть сближение звука и смысла, как пишет П. де Ман, и его слова приводит А. Щербенок в своей статье, – «это эффект, который достигается языком, но не несет никаких субстанциональных связей с чем-то находящимся по ту сторону языка. Это всего лишь троп, не связанный с природой мира» (с .86). Но я-то говорю о связях с тем миром, который находится не по ту и по эту сторону языка, а в нем самом, в языке, в полноте его поэтического осуществления. Но язык при этом, конечно же, не сводится на «систему знаков и обозначений», а предстает как то онтологическое основание бытия-общения, о котором уже шла речь в ряде предшествующих разделов.
В эстетической реальности мира, являющейся в слове и представляющей собою творчество в языке, не может быть, с моей точки зрения, тропа, не связанного с природой этого мира, как не может и демонстрироваться условность единства «правды, добра и красоты», о чем пишет А. Щербенок, резюмируя полемику с моей интерпретацией «Студента»:
"В нашем случае существенно, что эстетика, основанная на кратилизме знака, проблематизируется внутри самого чеховского рассказа. Метонимически соединяя в одном предложении ритмическую гармоничность с эксплицитной вербализацией ее оснований, поставленных к тому же под вопрос словом «казалось», чеховский текст демонстрирует условность единства «правды, добра и красоты» и тем самым деконструирует метафизическую предпосылку о естественности, природной укорененности основанной на этом единстве эстетики" (с. 86).
Центр расхождения здесь – абсолютный, первичный статус красоты, из чего я, действительно, исхожу: звуковая и любая иная красота в истинной сути своей принципиально не сводится на любую – в том числе и речевую, – внешнюю выразительность и являет собою единство, союз блага и истины: в свете их согласия или разногласия определяются различные, конкретные и относительные осуществления красоты со знаком плюс и со знаком минус (как прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного и т. п.). И «единство правды, добра и красоты» является настолько же безусловным, насколько безусловно существует и воспринимается красота чеховского рассказа. Другое дело, что союз правды и добра являет именно и только красота, эстетическая реальность, которая не только не требует, но и не допускает утопического признания себя за действительность природы.
Союз правды и добра в красоте одновременно и является несомненным и проблематизируется, но не «внутри чеховского рассказа», а на границе эстетической завершенности и незавершенного события «действительного единства бытия-жизни» (М. М. Бахтин). И это проблематизация не разных обозначений единственной природной реальности, это проблема отношения разных реальностей, их бытия-общения друг с другом. Глубинное единство бытия – необходимое и неизбежное множество осуществляющих его реальностей, возможных и действительных «миров» – единственность личности, в которой множественное может быть или не быть, стать или не стать осмысленным и единым (но не единственным), – такова система координат пер-соналистско-диалогической онтологии литературного произведения как бытия-общения. И эта система координат может быть прояснена, как я пытался показать, в со-противопоставлении с отвергающей эстетическую реальность и онтологический подход к литературному произведению риторической поэтикой П. де Мана и его последователей.
Утверждая, что «метафора цепи времен, которая возникает в сознании героя, действительно занимает центральное положение в структуре произведения», А. Щербенок связывает это исключительно с «риторическим эффектом», так что демонстрируется «зависимость трансцедентальной истины от системы языка», а «само соединение буквального и фигурального является здесь следствием языковой игры, независимой от интенции какого-либо из субъектов повествования» и «конец рассказа, где героем овладевают чувства, санкционированные именно этой метафорой, эмблематически выражает зависимость самой личной интенции от неподконтрольного субъекту дискурса» (с. 90).
Несомненно, в «Студенте», как и в любом художественном произведении, есть риторика построения изображающего события рассказа и артикулированная именно в этом чеховском рассказе «риторика прозрения». Но столь же несомненно, с точки зрения иной системы координат, что это не может быть исчерпывающей характеристикой формы произведения искусства слова. Эту иную систему координат представляют, например, слова Г. Гердера о том, что «Шекспирова драма во всех ее частностях, во всех особенностях сценической структуры, характеристики, языка и ритма подчинена единому закону, и этот единственный закон ее есть именно закон Шекспирова мира». Приведя эти слова Г. Гердера, Вяч. Ив. Иванов в своей статье «Мысли о поэзии» сформулировал следующее обобщение: «Очевидно стало, что форма в поэзии не то, что форма в риторике, не „украшение речи“, но сама жизнь и душа произведения» 3 .
Ознакомительная версия.