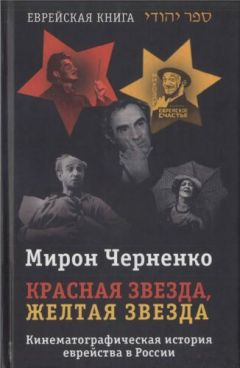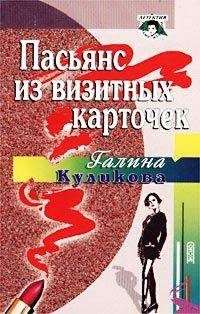Вероятно, то же самое можно было бы сказать о не выпущенном на экраны и не сохранившемся фильме Бориса Шписа и Рашели Мильман (завершившем окончательно их режиссерскую карьеру), картине «Инженер Гоф» (другое название — «Все впереди», 1935), банальной производственной ленте, сдобренной детективной интригой с непременным вредительством и уничтожением кулачества как класса, с призывами к бдительности в каждой фразе диалога. В центре фильма — молодой и исключительно прогрессивный советский инженер по фамилии Гоф, о национальном происхождении которого можно догадываться с достаточной дозой уверенности.
Точно так же можно строить предположения об этническом происхождении вундеркинда Янки Малевича (в этой роли снялся будущий пианист и шахматист Марк Тайманов) из картины Владимира Шмидтгофа и Михаила Гавронского «Концерт Бетховена» (1936, другое название — «Юный профессор), навеянной музыкальными победами Буси Гольдштейна и прочих учеников Столярского (среди персонажей картины скрипач Мирон Полякин и дирижер Карл Элиасберг). Буся спустя короткое время появится на экране собственной персоной в фильме В. Юренева «Счастливая смена» (1936). Точно так же можно строить предположения о происхождении одного из персонажей комедии Рубена Симонова «Весенние дни» (другое название «Энтузиасты», 1935) по фамилии Левин, энтузиазма не проявляющего, а, напротив, вместо выполнения промфинплана желающего жениться и потому отказывающегося работать в воскресенье, как того требует пятилетка. Разумеется, в конце концов все образуется: и трудовое задание будет выполнено, и двери загса распахнутся перед Левиным, так и не объяснив зрителю, чем и почему он отличается от своих коллег.
Таких примеров можно назвать великое множество, равно как и примеров обратных: скажем, в картине Александра Файнциммера «Любовь и ненависть» (1935) знаменитый эстрадный актер Виктор Хенкин играет эстрадника Бубу Касторского (спустя три десятилетия комика с тем же именем и фамилией сыграет в трилогии Эдмонда Кеосаяна о приключениях «неуловимых» Борис Сичкин), а в картине А. Минкина и И. Сорохтина «Лунный камень» (1935) великий еврейский трагик Соломон Михоэлс сыграет проводника-памирца по имени Санд.
Все это нетрудно объяснить, ибо эпоха была и впрямь переломной, время якобинской диктатуры сменялось термидором, в последствиях которого, скорее всего, еще не отдавали себе отчета даже его авторы и исполнители, и в этой серой политической зоне еще можно было многое, а точнее сказать, еще многое не было со всей безапелляционностью в ней запрещено, особенно там, где еще теплились очаги революционного романтизма двадцатых годов. Применительно к кинематографу можно сказать, что таким оазисом, таким осколком недавнего прошлого была киностудия «Ленфильм» под водительством Адриана Пиотровского, как и вообще Ленинград, колыбель Октября, «осиное гнездо» троцкистов, зиновьевцев и прочей антисталинской оппозиции, которая вскоре была выжжена каленым железом, сразу же после убийства Кирова. Покамест же на «Ленфильме» оказалось возможным многое из того, что было уже немыслимо не только в Москве, но и в Киеве, Одессе, Минске. Касалось это и еврейской проблематики.
Но, даже несмотря на это, можно считать чудом появление на «Ленфильме» самой выдающейся «еврейской» картины не только предвоенных лет, но и всего звукового кино в Советском Союзе. Речь идет о фильме Михаила Дубсона «Граница» (другое название «Старое Дудино»), вышедшем на экраны в 1934 году, практически одновременно с культовой картиной соцреализма «Чапаев». Разумеется, тщетно было бы видеть в «Границе» всю правду о российском еврействе тех лет, тем более что драматургической безопасности ради действие фильма было вынесено за пределы родины всех трудящихся, в панскую Польшу, где еще сохранялась в полной неприкосновенности и чистоте атмосфера и жизнь черты оседлости, та уникальная цивилизация «штетла», которой осталось жить немногим меньше десятилетия, и в самой Польше, и в Белоруссии, и на Украине. И потому роль и место «Границы» не только в истории мирового кино, но и в истории Восточной Европы, не говоря уже об истории мирового еврейства, попросту говоря, уникальна и не сравнима ни с чем другим.
Разумеется, в замысле речь шла не об этом, а совсем о другом — о «классовой борьбе среди еврейского населения пограничного с СССР местечка, о непроходимой безысходности и бездуховности дореволюционного быта, которая не могла разрешиться иначе, чем социальным взрывом» [33].
Должен признаться, что здесь я цитирую себя самого, точнее сказать, свою статью о Дубсоне, написанную более четверти века назад, не предполагая, что именно она спустя десятилетия натолкнет меня на мысль заняться еврейской проблематикой на советском экране. И в этом смысле «Граница» следует по пути, проложенному ее многочисленными идеологическими предшественниками, в чем-то даже превосходя их откровенной плакатностью изображения классовой борьбы, оголенностью революционно-приключенческой динамики. Но подлинный смысл картины обнаруживался не здесь. Это понимали проницательные критики и в те годы: недаром Д. Марьян и А. Мачерет почти согласно отмечали — один с одобрением, другой без, — что фильм эстетически выстраивается вокруг средневекового обряда свадьбы горбуньи с глухим, «черного венца» на ночном еврейском кладбище, обряда, избавляющего от беды, от напасти, от несчастья.
Дубсон недаром прошел в Германии школу экспрессионизма. Он подчеркивает безысходность местечкового быта: здесь свирепствует тиф, дребезжат по немощеным улицам погребальные дроги, вся мужская половина местечка бродит из дома в дом, чтобы отсидеть свои семь дней на сыром полу — в знак горя, в знак прощания с умершим. Здесь — в который раз — разбирает и собирает вновь свои древние часы изголодавшийся по работе часовщик: «Сколько ни разбирай, а они все ходят». Здесь покачиваются сутулые спины молящихся, колышутся черно-белые талесы, выводит слезливые рулады сладостный голос блудливого кантора, и один из согбенных, изможденных, небритых вдруг бьет себя кулаком в грудь и вопиет: «Почему в четырех верстах от нас евреи живут как люди? Только в четырех верстах. Почему?» И снова бьет себя в грудь, как молотом, пока не захлебнется чахоточным — не то хохотом, не то плачем, не то кашлем. В этом выкрике — политический и сюжетный смысл «Границы», каким он виделся в ту пору Дубсону, и не только ему. Но смысл художественный, и сегодня это куда очевиднее, был в другом — в антураже, во внимательном, чуть ироническом и печальном взгляде авторов на лица, на руки, на затылки, на фуражки, сдвинутые набок, на пейсы, на конторщика Арье, напевающего бесконечную песню без слов, песню из цифр, которые он лихо подчищает в конторской книге, на беспредельную глупость купеческой дочки, вопрошающей: «Мама, а когда нужно плакать?» — и ревущей в голос по знаку кантора. То, что должно было служить лишь фоном духоподъемной и вполне разоблачительной агитки, оказывается главным, и не только этнографически, хотя с точки зрения нынешней Старое Дудино представляет собой едва ли не самый подробный портрет реального, не выстроенного в павильоне «штетла» на мировом экране.
И потому даже в тридцать пятом году был важен не столько рассказ о подпольщике Борисе Бернштейне, попавшем под арест, бежавшем, связавшемся с русскими рабочими и снова бежавшем. Этот рассказ не таил никаких открытий, никаких неожиданностей. «Граница» поражала другим — абсолютной точностью характеров второстепенных, несущественных с точки зрения интриги, точностью ситуаций. В самом деле, всю пиротехнику побегов, митингов, демонстраций, долженствовавших свидетельствовать о революционной борьбе в местечке, вполне заменяет чисто бытовая сцена… По-детски жестоко и радостно возятся на голом полу портной, слесарь и часовщик (одного из них гениально сыграл всю жизнь скрывавший свое иудейское происхождение Сергей Герасимов), таскают друг друга за волосы, тузят досками — они никогда не умели драться, это видно сразу. Так что же они? Оказывается, эти люди «репетируют революцию»…
В центральной сцене фильма, в сцене «черного венца», которая идет параллельно с нападением на полицейский участок революционной бедноты, освобождающей приговоренного к смерти Бернштейна, внимательная и подробная печаль Шолом-Алейхема и Менделе Мойхер-Сфорима вдруг оборачивается жестокой символичностью Шагала — обобщенным до гротеска натурализмом местечкового быта. Здесь, в нервной перебивке печальных мелодий и революционных песен, пляшущего пламени свеч и костров, перебегающих теней деревьев, памятников, бедняков, рабочих, полицейских — интрига и фактура сплетаются словно в яростном ритуальном танце: «черный венец», утверждает Дубсон, оказывается в самом буквальном смысле венцом обреченности местечкового мира, из которого только один разумный, естественный и неизбежный выход — в открытый, революционный взрыв. И об этом тоже следует сказать прямо, ибо при всех комплиментах в адрес еврейского самосознания режиссера в основе менталитета послереволюционного российского еврейства, да простится мне этот сегодняшний термин, лежало тотальное отторжение от психологии, физиологии и этнологии черты оседлости, именуемой не иначе как гетто. Отторжение, смешанное с немалой дозой стыдливой ностальгии. Достаточно вспомнить хрестоматийное стихотворение Эдуарда Багрицкого «Происхождение», написанное почти в те же самые годы, в начале тридцатых, чтобы почувствовать эту ярость этнического самоотрицания, если не сказать самоуничтожения, этот беспощадный мазохизм целого поколения русских евреев, уверовавших в утопию и отдавших ее реализации не только себя самое, но и будущее своего народа: