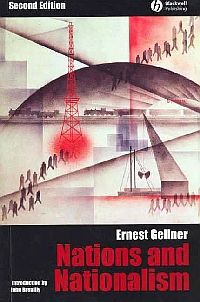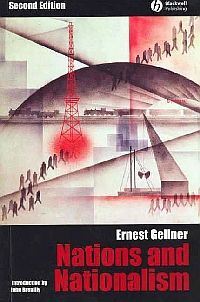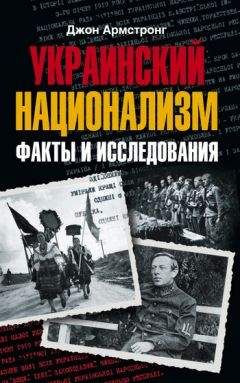Чтобы это объяснить, мы должны вернуться к обвинению, выдвигаемому против национализма: будто бы национализм неуклонно навязывает культурную однородность населению, имевшему несчастье оказаться под властью правителей, одержимых националистической идеологией. Это обвинение основывается на том, что традиционные, не напичканные идеологией правители, такие, как, например, османские турки, поддерживали в своих владениях мир и взимали налоги, но они терпимо относились и действительно были абсолютно равнодушны к разнице вер и культур, которыми они управляли. Напротив, их вооруженные винтовками последователи, по-видимому, не могут обрести покой, пока не осуществят националистический принцип cujus regio, ejus lingua[11]. Им недостаточно денежных излишков и повиновения. Они жаждут подчинить себе культуру и язык своих подданных.
Это обвинение все переворачивает с ног на голову. Дело вовсе не в том, что национализм насаждает культурную однородность из какого-то упрямого Machtbedurfnis[12]; национализм является выражением объективной потребности в такой однородности. Поскольку ситуация такова, что современное индустриальное государство, как мы установили, может функционировать только при участии мобильного, грамотного, культурно-унифицированного, взаимозаменяемого населения, неграмотные, полуголодные люди, вырванные из привычных сельских культурных гетто и ввергнутые в хаос городских трущоб, стремятся прибиться к одной из тех культурных общностей, которые уже имеют или, по всей видимости, вскоре обретут собственные государства, где можно будет впоследствии получить полное культурное гражданство, доступ к начальному образованию, работу и т. д. Часто эти оторванные от родных мест, лишенные корней кочующие массы людей не могут сразу выбрать себе постоянное пристанище, часто они останавливаются на временный отдых на том или другом культурном «перевалочном пункте».
Но есть такие культурные общности, которых они стараются избегать. Они остерегаются вливаться в сообщества, когда они понимают, что там к ним будут относиться с пренебрежением, или, вернее, когда предвидят, что к ним будут продолжать относиться с пренебрежением. Бедных пришельцев почти всегда презирают. Вопрос в том, будет ли это презрение длительным и ожидает ли подобная участь их детей. Это зависит от того, обладает ли вновь прибывший, а потому и наименее привилегированный слой общества такими чертами, с которыми его представители и их потомки не в состоянии расстаться и которые всегда будут выделять их из общей массы: от переходящих из рода в род и глубоко укоренившихся религиозно-культурных обычаев невозможно или трудно отказаться.
Ищущие пристанища жертвы ранней индустриализации вряд ли прельщались маленькими культурными общностями (язык, на котором говорит пара деревень, не открывает больших перспектив), или очень разобщенными, или не имеющими своей письменной традиции или специалистов, способных передавать навыки, и т. д. Им нужны большие культурные общности и/или имеющие основательную историческую базу или специальный интеллектуальный аппарат, хорошо оснащенный для передачи данной культуры. Невозможно выделить какое-либо одно или несколько качеств, которые либо обеспечивают успех культуры, являясь своеобразным националистическим катализатором, либо обрекают ее на провал. Масштабы, исторический опыт, достаточно компактная территория, способное и активное интеллектуальное сословие — все это, бесспорно, помогает. Но ни одно из этих качеств в отдельности не является необходимым, и вряд ли они могут служить основанием для точных прогнозов. Можно предсказывать, что националистический принцип будет действовать; но какие именно группировки станут его выразителями, можно лишь предполагать, потому что это зависит от слишком многих исторических случайностей.
Национализму как таковому суждено победить, но не какому-либо определенному национализму. Мы знаем, что достаточно однородные культуры, каждая со своей политической крышей, с собственным политическим управлением, становятся нормой, утвердившейся почти повсеместно, за немногими исключениями. Но мы не можем предсказать, какие именно культуры, с какими политическими крышами добьются успеха. В то же время произведенный нами выше простейший подсчет количества культур, или потенциальных национализмов, и ограниченного пространством числа полноценных национальных государств ясно показывает, что потенциальные национализмы либо потерпят поражение, либо — что более вероятно — воздержатся даже от попыток найти политическое выражение.
Так оно и есть на самом деле. Большинство культур, или потенциальных национальных групп, вступает в век национализма, даже не попытавшись что-либо из этого для себя извлечь. Таких групп, которые по «прецедентной» логике могли бы попытаться стать нациями, которые могли бы определиться на основании критериев, в других местах фактически определяющих реальные и эффективные нации, — бесчисленное множество. И все же большинство из них безропотно подчиняется своей участи: быть свидетелями того, как их культура (хотя не они сами как личности) медленно исчезает, растворяется в более широкой культуре одного из новых национальных государств. Большинство культур без всякого сопротивления отправилось на свалку истории под напором индустриальной цивилизации. Языковое отличие северной Шотландии от остальной Шотландии несравнимо больше, чем культурное отличие Шотландии от прочих регионов Соединенного Королевства. Однако северошотландского национализма не существует. То же самое можно сказать о марокканских берберах [5]. Диалектные и культурные различия внутри Германии или Италии так же велики, как различия между признанными германскими или романскими языками. Население юга России в культурном отношении несхоже с населением ее северных районов, но в отличие от украинского населения оно не ощущает это своеобразие как национальное.
Свидетельствует ли это о том, что национализм, в конце концов, не столь уж важен? Или даже о том, что это чисто идеологический феномен, измышление горячечных умов, которые таинственным образом увлекли за собой какие-то необычайно чувствительные нации? Вовсе нет. Такое заключение, как это ни странно, почти равносильно молчаливому, косвенному признанию самой неверной посылки националистической идеологии, будто бы «нации» заложены в самой природе вещей, что они только ждут, когда их «пробудят» (излюбленное националистическое выражение и сравнение) от прискорбного сна при помощи националистического «будильника». Именно способность большинства потенциальных наций когда-либо «очнуться ото сна», отсутствие в них глубинного брожения, которое могло бы выплеснуться наружу, наводят на мысль, что национализм, в конце концов, не столь уж важен. Приверженцы теории социальной запрограммированности «наций» замечают, возможно, не без удивления, что некоторым из этих «наций» недостает силы и решимости, необходимых для выполнения миссии, возложенной на них историей.
Но национализм — это не пробуждение древней, скрытой, дремлющей силы, хотя он представляет себя именно таковым. В действительности он является следствием новой формы социальной организации, опирающейся на полностью обобществленные, централизованно воспроизводящиеся высокие культуры, каждая из которых защищена своим государством. Эта социальная организация использует некоторые из существовавших ранее культур, постепенно полностью их перестраивая. Но она не может использовать их все: их слишком много. Жизнеспособное, поддерживающее высокий уровень культуры современное государство не может быть меньше определенного размера (если оно фактически не паразитирует на своих соседях), а на Земле есть место только для ограниченного числа таких государств.
Большой процент погруженных в непробудный сон «наций», которые никогда не встанут и не воссияют и которые даже не желают просыпаться, позволяет нам критиковать националистическую доктрину с ее же собственных позиций. Национализм считает себя естественным и всеобщим регулятором политической жизни человечества, только скованным этим длительным, упорным, мистическим сном. Вот как это представление выражено у Гегеля: «Нации могут пройти большой исторический путь, прежде чем они осуществят свое предназначение — оформить себя в виде государства»[13]. Тут же Гегель заявляет, что этот догосударственный период на самом деле можно назвать «доисторическим» (sic): таким образом, у него получается, что настоящая история нации начинается тогда, когда она обретает собственное государство. Если мы выставим существование наций — спящих красавиц, не имеющих своих государств и не ощущающих потребности в них, — в качестве аргумента против националистической доктрины, мы тем самым молчаливо признаем ее социальную метафизику, которая видит в нациях кирпичики, из которых сложено человечество. Критики национализма, которые осуждают националистическое движение, но не отрицают существования скрытых наций, не много преуспеют. Нации как естественный, данный от Бога способ классификации людей, как изначально уготованный им, хотя долго не осознаваемый политический удел — это миф. Национализм, который иногда берет ранее существовавшие культуры и превращает их в нации, иногда изобретает новые культуры и часто уничтожает старые, — это реальность, хороша она или плоха, и, в общем, реальность неизбежная. Исторические носители национализма не понимают сути того, что они делают, но это уже другой вопрос.