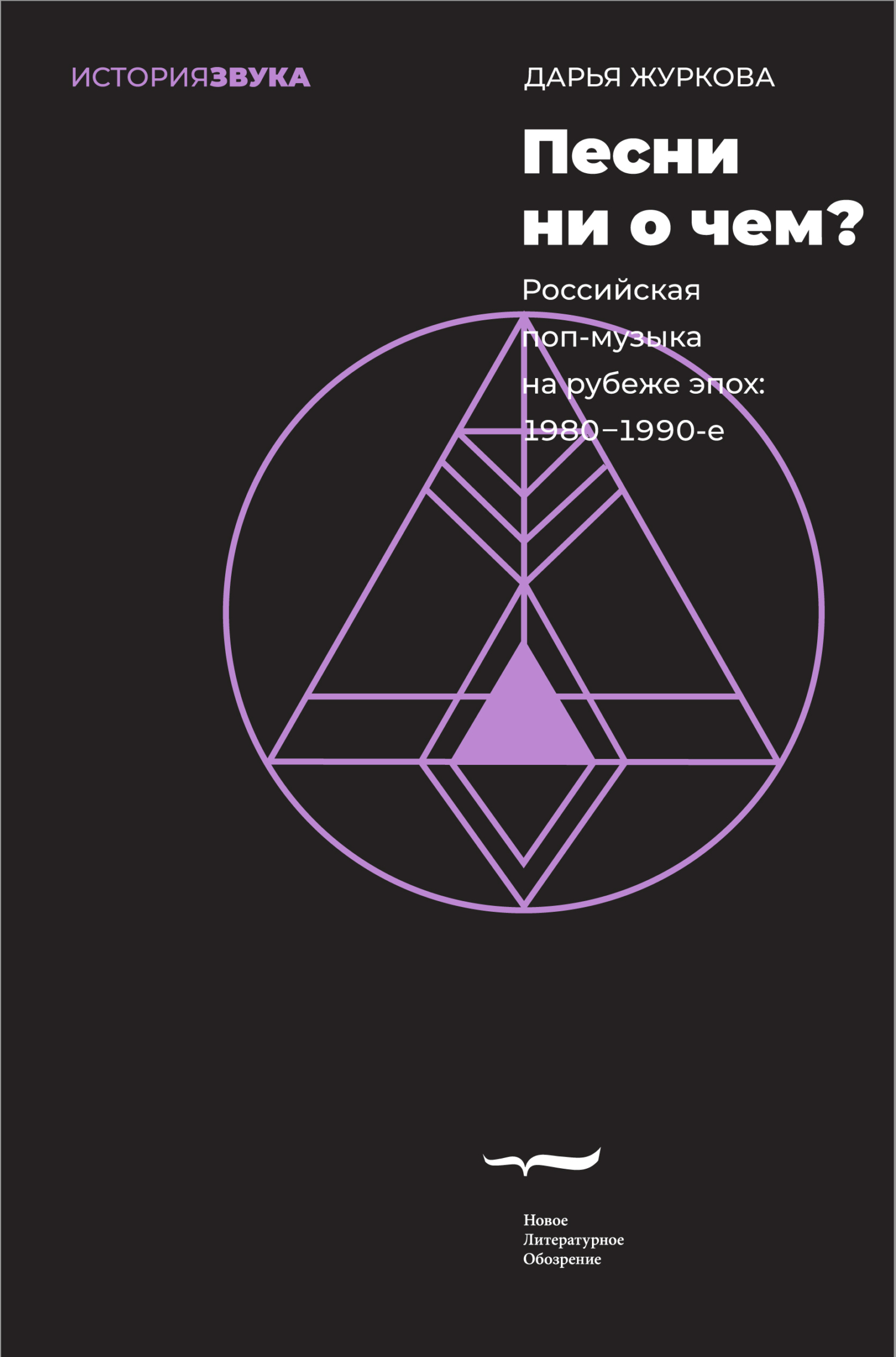постоянной сменой ролей и игрой со смыслами. Однако у этого карнавала есть очень горький привкус – предчувствие грядущей катастрофы. Именно потому, что почва под ногами становилась все более зыбкой, герои популярной музыки все чаще стремились унестись прочь от действительности, создать ирреальные миры роскоши, беззаботного веселья и вседозволенности. Татьяна Чередниченко очень точно диагностировала приметы эпохи, в которой «шоу с дымами, фонтанами, мигающими цветными лампочками указывали на некие несбыточные мечты, страшно далекие от повседневности» 133. У зрителя, особенно наблюдающего за этим действом из сегодняшнего дня, рождается устойчивое ощущение, что этот пир разыгрывается во время чумы. Предлагаю присмотреться к нему внимательнее.
Карнавал, воцаряющийся к 80‐м годам на отечественной эстраде, свидетельствует о коренных изменениях, происходящих в отношениях между государственной системой и индивидом. Именно эстрада ярче всего фиксирует нарастающий конфликт между официальной идеологией и ее восприятием рядовыми людьми. Правда, делает она это на своем языке, который требует особого подхода в интерпретации.
Исследуя природу средневекового и ренессансного карнавального смеха, Михаил Бахтин многократно подчеркивает, что тот был оборотной стороной исключительной односторонней серьезности официальной церковной идеологии 134.
В свою очередь, популярность почти антисоветских образов, моделей поведения на эстраде 1980‐х годов была своеобразной, во многом подсознательной, реакцией общества на все более очевидное и тягостное лицемерие режима. Чинная ритуальность партийных начальников отзывалась гулкими ритмами танцев диско; пустопорожняя демагогия – все более обессмысливающимися текстами песен; безразличное отношение системы к человеку выливалось в нарастающую на эстраде экзальтацию личных чувств; наконец, затянувшаяся холодная война оборачивалась жадным подражанием имиджу западных исполнителей.
Популярная музыка, желая того или нет, неустанно вела работу над разрушением границ официально регламентируемого советского мироустройства. Притом что тексты песен и образы в клипах были по сути предельно эскапичными, именно они отображали истинные желания и потребности общества. В своей статье «Общественное сознание и поп-музыка» 135 Евгений Дуков объясняет подобную взаимосвязь тем, что песня на протяжении всей истории человечества была одной из форм коллективной памяти. А поп-музыка в ситуации наступившего в ХX веке дефицита механизмов формирования исторического сознания стала все более активно вбирать в себя и транслировать социальный опыт различных поколений. Официальная советская идеология уже не могла дать то, к чему стремился обыкновенный человек, – элементарного бытового комфорта, не ущемляющего человеческое достоинство. А пространство поп-музыки как раз позволяло создавать такие идеалистические оазисы по принципу «все включено». Они вращались внутри неприглядной действительности не только в вербальном, но и в аудиовизуальном (клиповом) воплощении. Эстрада оттого и становилась все более востребованной, что могла хотя бы иллюзорно дать то, чего не было в реальности.
Это парадоксальное проникновение эстрадного мышления во все сферы жизни замечали и современники эпохи:
Промышленность, сельское хозяйство, наука, художественная поэзия, драматургия, критика, публицистика, музыка, театр, кино, цирк, спорт – все эти виды общественной активности приобретали к исходу десятилетия [70-х] все более и более празднично-показной, эстрадный характер. Подведение квартальных, годовых, пятилетних итогов <…> по всей стране превращалось в некое подобие гала-концертов, грандиозных шоу со всевозможными световыми, пиротехническими эффектами и раблезианскими банкетами 136.
Поначалу проявления различного рода «инобытия» были точечными, как бы случайными, локализованными в пределах отдельных музыкальных номеров. Но со временем характер их присутствия становится лавинообразным. Особенно ярко данный процесс наблюдается на примере разрастания количества чудаковатых героев, появившихся на музыкально-телевизионном экране в 80‐е годы, и в их характере взаимоотношений с аудиторией.
Эксцентричные персонажи если и возникали на телеэкране в начале 80‐х годов, то прекрасно осознавали свое полулегальное положение. Чудаки располагали к себе зрителя своей добродушной веселостью, открытостью, а также смелостью быть не как все. Так, в одном из выпусков «Утренней почты» под названием «Необыкновенное путешествие на воздушном шаре» (1983) прозвучала песня о музыкальных эксцентриках в исполнении квартета «Сердца четырех» 137. В визуальном отношении номер был поставлен нехитро: группа музыкантов в костюмах звездочетов пела забавную песенку, несмело приплясывая в такт музыке. Пространство студии, залитое голубым светом, имитировало условное небо с картонными облаками, воздушными шариками и необычными «музыкальными инструментами» – пилой, решетом, самоваром, расческой и веником, на которых, согласно песне, играют ее герои. Весь антураж инсценировки предполагал, что подобные блаженные чудики обитают где-то вне привычного пространства (показательно их переселение на небеса). К музыкальным эксцентрикам можно было необычным способом заглянуть в гости (ведущие программы попали к ним на воздушном шаре), но такой визит оставался не более чем вымыслом, абсурдом, каковым всеми – и участниками, и зрителями – воспринимался весь музыкальный номер.
Схожие причудливые типажи появлялись и в других выпусках «Утренней почты» тех лет, от отдельных номеров (например, песня «Комната смеха» в исполнении ансамбля «Ариэль») 138 до общей идеи всей программы. В последнем случае речь идет о выпуске, посвященном эстраде 1930–1950‐х годов (1983), где трое ведущих в роли персонажей немых фильмов нарочито жестикулируют, размахивают тросточками и театрально закатывают глаза. Примечательно, что поначалу эксцентричные герои «Утренней почты» зачастую были лишены разговорных реплик и вынужденно изъяснялись на языке жестов, в лучшем случае – словами песен, что еще больше усиливало их несуразность и чудаковатость. Они явно не вписывались в номенклатуру официальных классов советского общества, были забавными и безобидными, но совершенно чуждыми системе субъектами.
Однако спустя буквально несколько лет подобные герои из люмпенов эстрады превратились в ее законодателей. В выпусках «Утренней почты» середины 80‐х годов появляется все больше групп и отдельных исполнителей, чей имидж построен на стратегии эпатажа, но не добродушного, как прежде, а вызывающе нахрапистого. Откровенно антисоциальное поведение начинает подаваться и, соответственно, восприниматься не как недоразумение, а как некий эталон свободы от излишних условностей и устаревших норм. Количественное разрастание таких героев и их новое положение, безусловно, было напрямую связано с процессами, происходившими в обществе. Подступающая эпоха гласности выплескивала на поверхность всех, кто прежде не вписывался в стандарты официального уклада, вне зависимости от того, насколько вразумительно и достойно подражания было их поведение. Непохожесть любого порядка начинает априори возводиться в достоинство. Музыкальные клипы того времени демонстрируют безудержное упоение от вседозволенности, и чтобы удивить в следующий раз, приходилось все дальше уходить за грани вразумительного.
Имидж чудиков середины 80‐х годов был зачастую замешан в первую очередь на стремлении возвеличить пустяк и воспеть несуразность. Например, Крис Кельми, развалившись на берегу у моря, стенал о том, что ему «лень переползти в тень»; Сергей Минаев решал проблему избыточного веса своего героя, от которого девушки «плутовки <…> бегут, словно от винтовки». Раньше подобные плоские, прозаичные и откровенно трешевые сюжеты никак не могли попасть в песню,