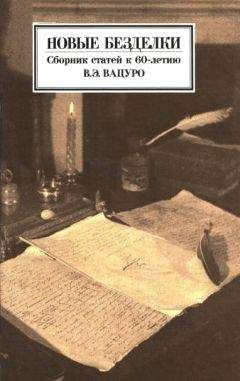В подвижной поэтике этой рубрики так же скользит и множится значение второго атрибута Цереры. «Густые снопы», «тучный злак», «пук колосьев зрелых» соотносятся не только с идеей изобилия, но и с образом животворящей влаги, питающей всходы. Отсюда эпитеты «глубокая трава», «косматая нива», «пушистые недра», «мягкое лоно». Одновременно все это — символические характеристики «мирного» пространства, в которое перемещается на отдых бог войны («И Марс храпит среди снопов», «во глубине косматой нивы»). В державинском варианте этой эмблемы снопы заменены туманами:
Небесный Марс оставил громы
И лег в туманы отдохнуть.
Для Боброва важен весь смысловой диапазон образа. «Туманы» в этом контексте объединяют для него несколько пересекающихся друг с другом значений: с одной стороны, это такой же атрибут осени, как и снопы —
Весы[*] на равных чашах взвесят
В одной снопы, в другой туман, (IV, 80) —
с другой — остужающая «ратный огонь» влага —
Пусть ляжет Марс между снопами!
Пусть гром отдохнет меж парами… (I, 31)
Ср.:
Сам Зевс багреющей десницей
Не мещет в раскаленный свод
Катящихся громов с зарницей <…>
Со громоносной птицей он
Свившись во облаках дождящих,
Возник почить на тихий трон.
(I, 103)
Вместе с тем влага тумана, остужающая «бурное дыхание» бога войны, функционально соотносится Бобровым с сочной влагой нивы, которая так же, как и туман, тушит «ратный огонь»:
Он спит <…>
Во глубине косматой нивы;
С ним молкнет потушенный гром.
(I, 102)
О колеснице Войны:
Лег конь ея к траве глубокой
И тушит ратный свой огонь.
(I, 103)
Так, и «глубокая трава», и «туманы» («пары») в рассматриваемом аллегорическом контексте являются «производными» от основного атрибута (сноп) и соотносятся как члены одной парадигмы. «Умножая» семантику устойчивых эмблематических элементов, Бобров как бы вскрывает образные ресурсы эмблемы. Сохраняя аллегорический рисунок образов, он размыкает их смысловое пространство, подводит к аллегории новые и новые ассоциативные ряды. Так, следующей фазой развития сюжета становится актуализация мифопоэтических представлений о животворящей силе дождя. Дождь соотносится с образом долгожданного мира:
Мир снидет, яко дождь идущий
На тихи шелковы поля,
Или как облак капли льющий
Да усырится вся земля.
(I, 107)
В параллельно развивающемся альтернативном сюжете о жатве на поле брани происходит «перелицовка» и этого мотива. Он завершает ряд дублирующих друг друга значений:
Ср.:
Когда гремяще поле ратно,
Где жатва для меча растет,
Тебе явилось неприятно,
Что дождь злотый туда нейдет, <…>
При Бельте лавров не кропит:
Да минет в век твой дождь свинцовый
Да минет облак с ним громовый!
(II, 21)
Между тем образы земли, увлажненной дождем, и земли, «чреватеющей осенней жатвой» (плодоносящей Цибелы), представляют собой начальную и конечную фазу развития традиционного мифологического сюжета о браке Неба и Земли. В его основе — представление о матери-природе, природе-роженице. Образ складывается из двух мотивов: мотив оплодотворения и — разрешения от бремени. Небо в виде дождя оплодотворяет Землю, и Земля начинает плодоносить.
Моделируя макрокосм как живой организм, Бобров в целом ряде текстов и вовсе отказывается от традиционных аллегорических приемов его описания. В изображении естественных метаморфоз живой природы (извержение вулкана, землетрясение, гроза, буря) Бобров обращается к оригинальной стилистике, используя язык физиологии, наиболее, с его точки зрения, адекватный для передачи натурфилософской сущности изображаемого. «Антропоморфная» стилистика порождает совершенно особый метафорический ряд: «природа многогруда», «надутое чрево нощи» (предверие грозы), «бедра гор», «кипящий сосок» вулкана, «разверстые ложесна всеобщей матери земли» (вспаханная земля), «чресла облаков». Последняя из приведенных метафор непосредственно связана с идеей оплодотворения Земли Небом. Отталкиваясь от этой метафоры, Бобров в ряде текстов развивает ее, пытаясь передать внутреннюю динамику описываемого процесса:
1. Едва мелькнет: — зияет туча,
И вдруг сжимается опять;
Сжимается, — зияет паки… (IV, 204)
2. Тоща, как час уже приспел
Низвергнуть долу влажно бремя,
Рекою дождь свой источает. (IV, 219–220)
Мифологическое представление о союзе Неба и Земли — введенное Бобровым в контекст аллегории Мира, в определенном смысле дублирует союз Марса и Цереры (Цибелы, Помоны): неизменный итог обоих сюжетов — осенний урожай, культ Помоны. Однако и в этом случае при сохранении аллегорической основы образа (действующие персонажи, символика и атрибутика) Бобровым зачастую используется некий особый способ подборки и группировки лексического материала, предполагающий возможность двойного — прямого (тяготеющего к натурализму) и символического прочтения:
Уснул сей дышищий смертями <Марс. — Л.З>
На мягком лоне девы той,
Что чреватеет меж полями
Осенней жатвой золотой.
(II, 31)
Их трех аллегорических героинь — Цибела, Помона, дева (август) — берется наиболее неопределенный вариант — «дева», причем в первую очередь актуализируется в тексте лексическое, а не символическое значение слова. Природа заменяется девой. Замена ведет к тому, что идиома «лоно природы» трансформируется в «лоно девы». Ряд эпитетов, устойчиво характеризующих у Боброва осеннюю ниву: «глубокая», «пушистая», «тучная», «косматая», «густая», — здесь сводится к одному, стилистически наиболее органичному — «мягкое лоно». Эпитет естественно подключается к прямому значению словосочетания «лоно девы» — «мягкое лоно девы» — и одновременно сохраняет исходную семантику, связанную с образом «густой нивы» (спелых колосьев и мягкой, сочной травы). В итоге перед нами текст, смысл которого постоянно вибрирует от прямого к переносному[191]:
Отчасти сохраняя эмблематическую структуру образа, Бобров отказывается от основного структурного принципа эмблемы — двухмерности (устойчивого соотношения знака и значения).
Традиционный аллегорический макет («Помона плещет в белы длани; И Марс храпит среди снопов») распадается, обрастая сетью дополнительных значений, параллелей и ассоциаций. Эмблема трансформируется в метафору.
«Пуантом» прослеженных метафорических преобразований идеи Мира можно считать метафору, построенную не столько на игре смысла, сколько на игре смысла и стиля:
…Иль обращаешь взор плененный
К утехам сельского ты мира,
Где год беременный желтеет. (IV, 97)
Перед нами результат последовательной трансформации:
Здесь на словосочетание из двух слов (беременный год) приходится два «слома» — стилистический и смысловой:
1. Вместо традиционного в аллегорической поэтике старославянизма чреватый (чреватый жребием новый век, чреватая дождями осень, чреватое бурями царство Нерея и т. д.) — эпитета традиционно условного и поэтому лишенного устойчивых признаков половой принадлежности, Бобров использует его сниженный вариант — беременный, конкретное значение, соотносящееся в языке исключительно с существом женского пола и абсолютно инородное в условной стилистике XVIII века.
2. Физиологическим признаком женского организма наделяется отвлеченное понятие мужского рода — год.
Метафорический эффект последнего стиха удваивается еще и потому, что стих в целом представляет собой метафору в метафоре: первая из них — год желтеет (исходный конструкт — осенняя нива желтеет, где год оказывается одной из метафорических «степеней» осенней нивы: осенняя нива = урожай года (замена по аналогии) — урожай года = год (синекдоха); вторая метафора, включенная в первую, — год беременный. Последняя метафора более «далекая», с разветвленной схемой развертывания: