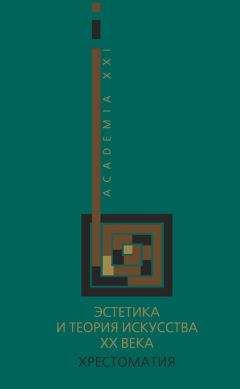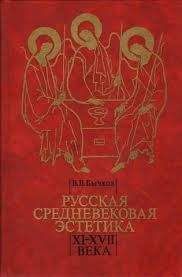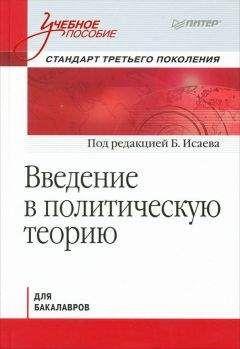То, что структурализм придает в конституировании текста особую значимость языку, означает требование научности как главное в построении новой поэтики. В данном же случае, если иметь в виду структуралистское понимание научности, то последняя связана с оттеснением всех наук, и прежде всего эстетики, на периферию и с ориентацией на такую науку, как лингвистика, постепенно, уже в проекте Ф. де Соссюра, перерастающую в семиотику как общую науку о функционировании в обществе знаковых систем, для которой лингвистика оказывается лишь образцом. Однако в XX веке лингвистика выдвигается в центр гуманитарного знания, о чем свидетельствует ее проникновение в методы изучения искусства, еще и потому, что она предлагает ключ к овладению того столь обращающего на себя внимание и даже пугающего феномена, каким является бессознательное. Дело в том, что, как открыли структуралисты, интерпретация бессознательного поддается определенным правилам. Оно структурно упорядочено в соответствии с теми же нормами, что имеются в естественном языке. Что же касается эффекта культивирования лингвистики на статус автора, то здесь срабатывает следующая закономерность. Структуралисты пришли к выводу, что в современной культуре значение субъективности вообще преувеличивается. Изучение языка показывает, что не мы пользуемся языком, а он – нами. Парадокс заключается в том, что лишь язык позволяет человеку объективировать свою субъективность. Однако язык предшествует индивиду, следовательно, до и независимо от индивида он уже определенным образом организует, классифицирует, предлагая готовые формулы, в которые отливается наша субъективность и, соответственно, в них растворяется. Все эти положения, естественно, распространяются и на субъективность творца. Впрочем, культ лингвистики к появлению структурализма в теории искусства был уже знаком по «формальной» школе, ведь это именно формалисты, реализуя свой проект новой поэтики, провозгласили лингвистику единственной наукой, способной помочь им такой проект реализовать. Обобщая опыт формалистов, Б. Эйхенбаум указывает на лингвистику как самое эффективное средство построения поэтики. «Так, вместо обычной для литературоведов ориентации на историю культуры или общественности, на психологию или эстетику и т. д. у формалистов явилась характерная для них ориентация на лингвистику как на науку, по материалу своего исследования соприкасающуюся с поэтикой, но подходящую к нему с иной установкой и с иными задачами»141.
В связи с концепцией М. Бахтина мы уже касались вопроса о том, почему возведение поэтики формалистами не оказалось до конца удовлетворительным. Уязвимость формализма верно констатировал М. Бахтин. Смысл этой уязвимости он сформулирует позднее в статье «К методологии гуманитарных наук», эскиз которой, правда, существовал уже в конце 30-х – начале 40-х годов. В этой статье он отвечает на вопрос о своем отношении к структурализму. Но этот ответ был дан уже в отношении М. Бахтина к формализму. М. Бахтин выступает против деперсонализации как структурализма, так и формализма. Такой деперсонализации названных направлений как раз и способствует лингвистика, освобожденная от принципа диалогизма. С помощью диалога М. Бахтин восстанавливает персоналистический смысл языка или, наоборот, персоналистический смысл языка восстанавливает через диалог. При этом, возвращая к персонализму и субъективизму, М. Бахтин отнюдь не возвращает к психологии, от которой формалисты успели отречься. «Смысл персоналистичен: в нем всегда есть вопрос, обращение и предвосхищение ответа, в нем всегда двое (как диалогический минимум). Это персонализм не психологический, но смысловой»142.
Следующим, кроме языка, фактором, нейтрализующим авторское начало в тексте, по Р. Барту, является введенное им понятие «письма», которому он посвятил специальную раннюю работу «Нулевая степень письма». Откуда берется множественность входящих во взаимодействие в тексте кодов? Она связана с расслоением единого языка на множество «социолектов», или типов письма. Последний означает способ знакового закрепления социокультурных представлений. Таким образом, получается, что письмо означает опредметившуюся в языке идеологическую сетку, используемую определенной социальной группой или субкультурой в интерпретации окружающей действительности. Такая сетка оказывается между человеком и миром, именно она определяет, фиксирует или не фиксирует человек какие-то явления и как их оценивает. Культура представляет внушительный фонд таких типов письма. Но использование этого фонда избирательно, оно производится индивидом в соответствии с принадлежностью к определенной среде. Как пишет глубокий истолкователь французского структурализма Г. Косиков, в феномене письма Р. Барт разглядел социальный институт, обладающий принудительной, т. е. идеологической силой143. Проблема заключается в том, что письмо проявляет активность как в творческом акте, так и в процессе восприятия.
Важным аргументом в констатации понижения статуса Автора у Р. Барта явился тезис об активизации в контакте с произведением читателя. Р. Барт исходит из понимания произведения как текста, представляющего вовсе не линейную цепочку слов (кстати, с этим бы согласился еще один теоретик искусства XX века – М. Маклюен). Для Р. Барта текст представляет многомерное пространство, где вступают во взаимодействие различные виды письма. Получается, что текст состоит из отсылающих к множеству культурных источников цитат144. Что же в таком случае должен делать Автор? Р. Барт говорит: автор устраняется, точнее, превращается в приходящего ему на смену скрипотора, а последний «несет в себе не страсти, настроения, чувства или впечатления, а только такой необъятный словарь, из которого он черпает свое письмо, не знающее остановки; жизнь лишь подражает книге, а книга сама соткана из знаков, сама подражает чему-то уже забытому, и так до бесконечности»145. Но поверженный Автор в лице скриптора для Р. Барта – оборотная сторона активизировавшегося читателя. И вот в том месте, в котором Р. Барт провозглашает господство читателя, его выводы удивительно напоминают теоретические положения М. Бахтина, это не случайно, ведь сверхзадачей Р. Барта, как и М. Бахтина, было стремление дискредитировать и разрушить язык идеологии как язык монологический, что делало популярным его работы в среде левых западных интеллектуалов. «Так обнаруживается, – пишет он, – целостная сущность письма: текст сложен из множества разных видов письма, происходящих из различных культур и вступающих друг с другом в отношения диалога, пародии, спора, однако вся эта множественность фокусируется в определенной точке, которой является не автор, как утверждали до сих пор, а читатель»146.
В самом деле, данное суждение Р. Барта изумляет даже не провозглашением господства в искусстве воспринимающего. Кого может удивлять это высказывание Р. Барта конца 60-х годов, когда к этому времени (и Россия – не исключение) повсеместно усилился интерес к проблематике восприятия, о чем свидетельствовал и резонанс извлеченной из архива рукописи книги Л. Выготского «Психология искусства», и активизация рецептивной эстетики, и вторая волна социологии искусства, и деятельность в СССР Комиссии по изучению художественного творчества. В самом деле, ведь в представлении Р. Барта о том, как организуется и функционирует текст, явно улавливается перекличка с диалогичностью в литературном тексте разных речевых кодов. Но дело даже не только в перекличке с М. Бахтиным. Дело в том, что когда Р. Барт утверждает, что текст соткан из цитат, отсылающих к тысячам предшествующих источников, то тем самым он уже близко подходит к формулировке ключевого для постструктурализма понятия, т. е. понятия интертекста, которое, правда, он в данной статье все же не употребляет. Но, собственно, именно интертекстуальность пронизывает все теоретические идеи М. Бахтина. Правда, может быть, такое представление М. Бахтина о литературной эволюции и о жизни конкретного текста в этом контексте родилось в результате проработки текстов формалистов, хотя известно, что М. Бахтин был серьезным оппонентом «формальной» школы. Ведь писал же В. Шкловский буквально следующее: «Чем больше уясняете вы эпоху, тем больше убеждаетесь в том, что образы, которые вы считали созданными данным поэтом, употребляются им взятыми от других и почти неизменными. Вся работа поэтических школ сводится к накоплению и выявлению новых приемов расположения и обработки словесных материалов и, в частности, гораздо больше к расположению образов, чем к созданию их. Образы даны, и в поэзии гораздо больше воспоминания образов, чем мышления ими»147.
Собственно, чем отличается это высказывание В. Шкловского от того, что потом, в 1971 году, в статье «От произведения к тексту» напишет Р. Барт? «Так происходит и с Текстом – он может быть собой только в своих несходствах (что, впрочем, не говорит о какой-то его индивидуальности); прочтение Текста – акт одноразовый (оттого иллюзорна какая бы то ни было индуктивно-дедуктивная наука о текстах – у текста нет „грамматики“), и вместе с тем оно сплошь соткано из цитат, отсылок, отзвуков, все это языки культуры (а какой язык не является таковым?), старые и новые, которые проходят сквозь текст и создают мощную стереофонию. Всякий текст есть междутекст по отношению к какому-то другому тексту, но эту интертекстуальность не следует понимать так, что у текста есть какое-то происхождение; всякие поиски „источников“ и „влияний“ соответствуют мифу о филиации произведений, текст же образуется из анонимных, неуловимых и вместе с тем уже читанных цитат – из цитат без кавычек»148.