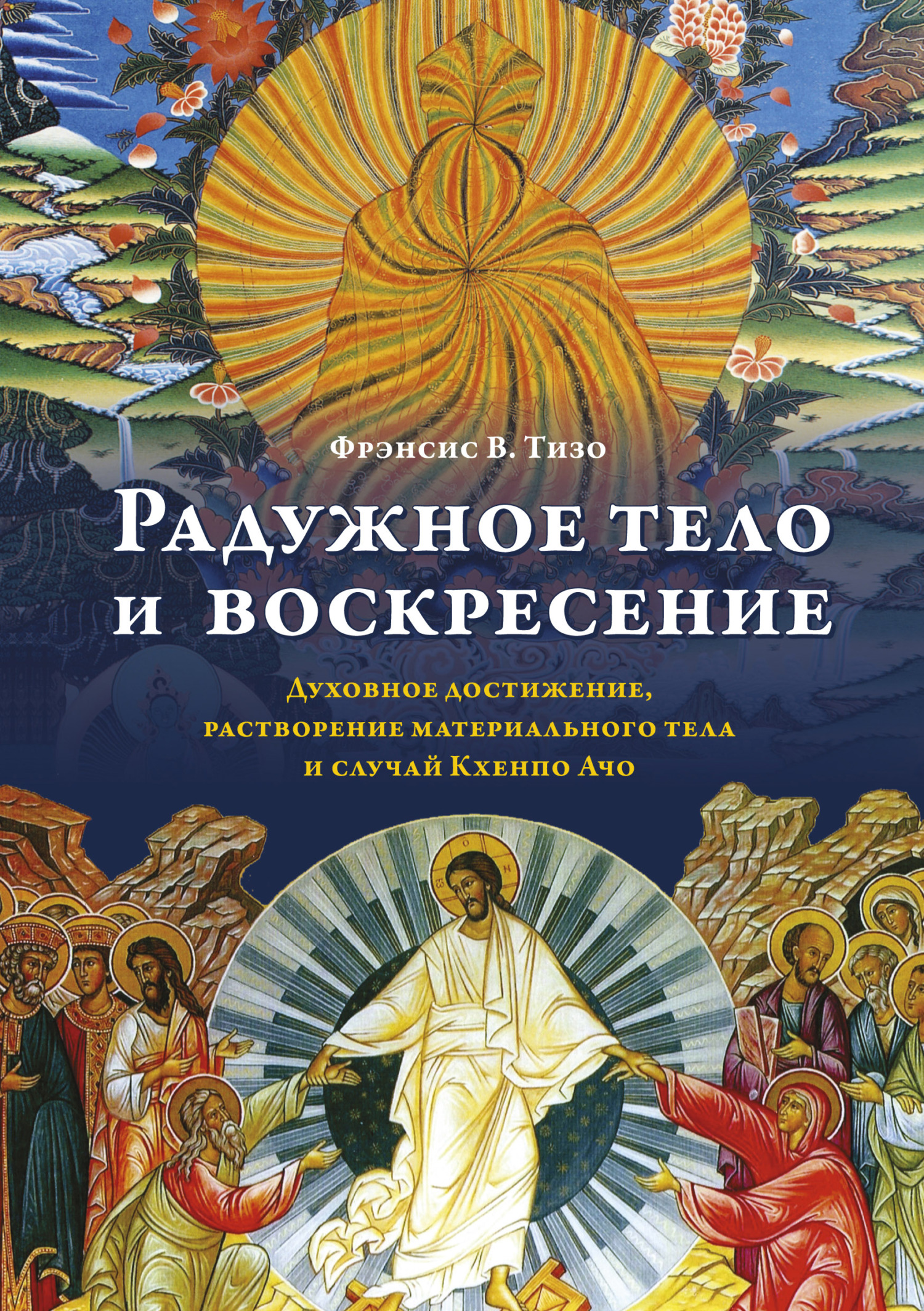старые летние накидки (юката), набедренную повязку (фундоси) отца, в некое подобие пеленки. Лишь после наречения младенца именем (на седьмой день после рождения) и посещения святилища (обычно на тридцатый день), когда «объявляли» ребенка перед богами (часто для лучшей коммуникации с ними его вынуждали там плакать), он получал «человеческий» статус и имел право на личную одежду, которая, в частности, маркировала и пол (темная или черная — для мальчиков, красная — для девочек). Вместо самого младенца можно было отнести в храм и пояс детской одежды, над которым читались молитвы. После этого инфантицид был невозможен, ибо ребенок становился «настоящим» человеком, то есть был «одет».
В одежде «жила» душа носившего ее человека. Новую ткань можно было подарить любому, но подарок ношеной одежды свидетельствовал об особо близких связях между дарителем и тем, кому такой подарок преподносился. Попадание одежды к постороннему считалось опасным, ибо он мог проделать с ней ритуалы «черной» магии. Поношенную верхнюю одежду с нанесенным на ней гербом полагалось сжигать. Существовал и запрет на «одалживание» одежды, в особенности пояса — той части одежды, которая соприкасалась с животом — вместилищем японской души. Во время корейской экспедиции Тоётоми Хидэёси его войска разграбили гробницу корейского правителя, сожгли его труп, а в королевскую одежду облачили труп простолюдина82. Таким образом, несоответствие одежды и статуса должно было выразить крайнюю степень презрения японских воинов.
Буддийская составляющая японской культуры учит отрешенности от суетного мира, выражение лица у будд и бодхисаттв характеризуются, как правило, непроницаемостью, глаза у изображений святых обычно полузакрыты, что свидетельствует об их полном душевном равновесии и отрешенности. Их взгляд направлен не вовне, а внутрь себя. Учение знаменитого проповедника дзэн-буддизма Хакуина (1685—1768) настаивало на первостепенной значимости именно «внутреннего взгляда» (найкан), целью которого было познание своей сущности. В то же самое время у ревностных адептов буддизма допускалось появление слез, свидетельствующих о религиозном умилении83. Слезы у придворных кавалеров и дам, возникающие у них от любовных переживаний, считались необходимым признаком аристократизма и тонкости чувств.
Однако установка официальной (конфуцианской) культуры токугавской эпохи была совсем другой. Она предполагала сдерживание внешних проявлений эмоций и способствовала тому, что лицо не воспринималось в качестве показателя душевного состояния человека. Воспитанному и благородному самураю и мужу (даме) также приличествовало сохранять невозмутимое, «непроницаемое» выражение лица. Громкий голос, смех и плач, чрезмерное проявление гнева, печали и радости выдавали «подлое» происхождение или же свидетельствовали о недостойной «слабости», неумении владеть собой. Европейцам японское лицо казалось «непроницаемым», в чем они зачастую усматривали «бесчувственность», «скрытность» или же «двуличие». Развитая мимика европейцев, напротив, служила для японцев еще одним признаком их «некультурности».
Таким образом, в токугавской Японии мы наблюдаем не «культ лица», а «культ одежды». То есть в облике человека подчеркивалось не столько его переменная (мимика), сколько неизменная (статусная) составляющая. Поскольку одежда была лишена индивидуализирующего значения, понятие моды отсутствовало (или было ослаблено), никакие новшества не приветствовались. Одежда состояла из ряда подпоясанных халатообразных накидок (пуговиц японцы не знали), которые скрывали особенности телесной конституции. Одежда не облегала тело, а «маскировала» его. Маскировала таким образом, чтобы лучше выявить социальный статус ее хозяина. Если оценивать ситуацию в целом, то можно сказать, что японских морализаторов, писателей и художников больше интересовали в облике не те черты, которые выделяли человека (индивидуальность) из толпы (особенности внешности, мимики), а те, которые ясно обозначали его статус. Поэтому при введении в повествование того или иного персонажа писатели часто указывают на его прическу, которая служит указателем на возраст, общественное положение или род занятий. По этой же причине одежды бывают прописаны в литературных произведениях с подкупающей тщательностью, а на живописных свитках по одежде всегда можно определить, к какой общественной страте относится тот или иной персонаж. Невнимание к описанию внешности персонажей (выражение их лица) хорошо чувствуется даже в современной японской литературе.
В средневековых (в особенности относящихся к эпохе Хэйан) художественных текстах, имеющих своим источником императорский двор, часто говорилось о женской красоте, но авторы обычно ограничиваются восхищением белой кожей и длинными (густыми) волосами. Характеризуя женскую «красоту», они говорят о том, что женщина была прекрасна, как «фея» или «картинка», уподобляют ее знаменитым китайским красавицам. Характеристика мужчины, как обладающего «красивой» внешностью, также встречается достаточно часто. Эти тексты сосредоточены на любовных переживаниях персонажей, поэтому их гендерная привлекательность имеет для авторов такое большой значение.
Официальная культура эпохи Токугава относилась к хэй-анским текстам с осуждением, половая любовь воспринималась как распущенность. Поэтому и определение «красивый» применительно к внешности встречается в литературе этого времени реже. Уподобления японок китайским красавицам не исчезают полностью, однако теперь акцент делается совсем на другом: утверждается, что истинная красота заключена не во внешности, а в душевных качествах, которые достигаются правильным воспитанием. Так, Кайбара Экикэн в своем поучении женщинам решительно утверждал: «Будет лучше, если душевные качества женщины станут превосходить внешние. Отказываться от женской добродетели и служить [мужчине], полагаясь лишь на внешность, считалось встарь, считается и теперь дурным. Мудрецы древности не отвергали даже тех, чья внешность была поистине безобразна, и если у женщины обнаруживался превосходный нрав, то она могла стать и императрицей»84. Приведя примеры из китайской истории, автор продолжает: внешность дается рождением и не поддается изменению, поэтому следует трудиться над гем, что возможно «окультурить», т. е. следует озаботиться воспитанием добродетельности — в таком случае и безобразная внешность не может послужить помехой для исполнения своего долга. Таким образом, ясно утверждается приоритет культурного над природным, повышенной ценностью обладает то, что возможно изменить, реформировать, окультурить.
Представление о том, что привлекательность женщины заключена вовсе не в ее внешности, глубоко укоренилась в японской литературе. Вместо того чтобы описывать внешность красавицы, Ихара Сайкаку (автор, который творил для простонародья) предпочитает описывать ее одежды, аксессуары и прическу: «Поверх нижнего кимоно из узорчатаго белого шелка на алом исподе на ней было нарядное фурисодэ [верхняя накидка, носимая незамужними девушками. — А. М. с рисунком в виде кипарисовых вееров, подвязанное поясом, сплетенным из крученых лиловых нитей. Небрежно уложенные волосы посередине перехвачены золоченым шнурком... В руке вместе с веером, украшенным кистями, она держала листья тутового дерева»85.
«Красота» представителей высших страт японского общества была заключена прежде всего в одеждах и церемониальном поведении. Поэтому выявление индивидуализирующих особенностей внешности может происходить только при описании «простонародья» и у тех авторов, которые писали для простонародья (в особенности это касается юмористических произведений). При этом