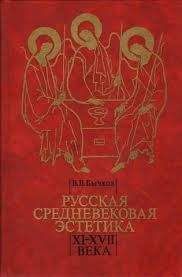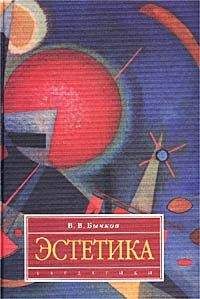Заключенная в статье «Пол и культура» информация подсказывает вывод, что в современном мире (западном, разумеется) происходит некий энергетический кризис секса. Как последователь определенного мировоззрения, вам известного, мой терпеливый читатель, я, разумеется, склонен везде искать причины социальные. Нужно стремиться к тому, чтобы человек не был безгласным винтиком большого абстрактного механизма, тогда ему не придется компенсировать подавленную энергию сексуальным спортом и дрожать за свою увядающую чувственность. Там, где живой человек вступает в непосредственное близкодействие с общественным целым, его духовный мир приходит в полное равновесие с жизнью тела. Так думали поэты и мыслители эпохи классического гуманизма, из которого вышло учение Маркса и Энгельса.
Да, но это устаревший идеал, скажет современный «класс мыслителей», а мы живем в другом мире, и Арнольд ждет от нас практического совета. Не знаю, что ему сказать — как-нибудь обойдется. Что же касается мыслителей новой популяции, то им лучше всего выбросить из головы свою натруженную «духовность» вместе с культом абстракции, «типологизацией» и прочим избытком обратных связей, мешающим ходить, думать, любить.
Теперь мы знаем, что на сексуальном уровне век науки имеет свои проблемы. Высший порыв интеллекта требует ломки всех канонов и норм, следовательно, и моральных «нельзя». Но это приводит к энергетическому кризису и заставляет с тоской вспоминать о былых запретах, делавших запретный плод таким сладким. Безвыходный круг! На помощь приходит полная какофония мышления, состоящая в шатании из одной крайности в другую. Мне уже приходилось излагать в печати закон, согласно которому из глубины чистого отрицания, то есть вошедшей в привычку ломки канонов и норм, образующей содержание всякого авангардизма, рождается нечто обратное — идеология возвращения к наглухо завинченной дисциплине прошлого, суровой позитивности отцов и дедов, к тому, что немцы называют Zucht. He хочется повторять это в общей форме, приводить далекие от нас примеры, ссылаться на поднимающий голову во всем мире «новый консерватизм». Не лучше ли посмотреть, как совершается подобная трансформация, этот обратный переход из царства «вседозволенности» в царство «запретов» на примере А. Гулыги? Это и ближе, и забавнее.
Возвращение блудного сына в отчий дом происходит на почве классической русской литературы. Если бы А. Гулыга соблюдал третье правило Канта, выведенное им для «класса мыслителей», то есть был бы верен себе, то ему, конечно, следовало примкнуть к новаторам, которые предлагали сбросить Пушкина с «парохода современности». Ведь ничего более разного, несовместимого, чем умная простота великого поэта и ничтожные «головоломки», столь ценимые нашим автором, не может быть. В предисловии к своей биографии Канта А. Гулыга верно заметил: «У иного замысловатого автора разденешь фразу, освободишь от словесных хитросплетений, и перед тобой банальность, а то и вообще ничего нет»41. Это относится ко всякому умничанью — и философскому, и поэтическому.
Пушкин однажды сказал, что поэзия, прости господи, должна быть «глуповата». Здесь перед нами, разумеется, шутка, но за этой шуткой скрывается нечто серьезное — диалектическое переворачивание высокого и низкого, известное у древних под именем энантиодромии. «Глуповатость», или, точнее, простота, истинной поэзии бесконечно умнее словесных хитросплетений и прочих галантерейных изделий полукультуры. Вот чему нужно учить уже на школьной скамье, как учила этому школа Белинского, учила и выучила поколения не напоказ живущих, презирающих всякое «выдрющивание» подлинных личностей. Такими личностями и создана русская культура прошлого века.
А. Гулыга ничего не может сказать о простых, как все великое, созданиях русской классики, а если открывает уста и решается авторитетно высказать, наконец, нечто, требующее внимания, то получается либо общее место, давно известное, либо открытие ни с чем не сообразное. И все же тайная сила заставляет его (еще раз отвесив поклон своим «головоломкам») обратиться лицом к русской литературной традиции. Но что из всего этого выходит?
Перед нами А. Гулыга в качестве защитника классической русской литературы от радикального предложения одной учительницы сократить изучение всех этих устаревших Онегиных, Печориных, Фамусовых и прочих42. Профессор без труда доказывает, что у слишком гордой своим современным образом мысли учительницы «не хватает ценностного подхода к своему предмету», другими словами, она не любит литературу, которую преподает. Большая часть статьи заполнена примерами того, как сам А. Гулыга любит русскую литературу. Так, например, еще будучи школьником, он участвовал в «пушкинском кружке» таких же молодых интеллектуалов, как он сам. После Пушкина изучали Некрасова, потом Александра Блока. В связи с известным стихотворением Блока «Девушка пела в церковном хоре» А. Гулыга проявил особую любознательность. «Какая девушка? — стал я допытываться у учительницы. — О чем идет речь в этом стихотворении? Что говорит оно нам сегодня?» Татьяна Николаевна послала меня в Третьяковскую галерею: пойди и найди там портрет, более всего соответствующий духу блоковского стихотворения. Я долго бродил по залам музея, вглядываясь в женские лики. Вдруг меня осенило: «Девушка, освещенная солнцем». Учительница не стала возражать» 43.
Почему она не стала возражать, легко себе представить. Какая связь между девушкой, певшей в церковном хоре, Александра Блока и девушкой, освещенной солнцем, Валентина Серова? Ровно никакой — на известной серовской картине совсем другое настроение, другой женский образ. Вот учительница и решила, что молодой человек настойчиво хочет доказать свою интеллектуальность. Тратить время на объяснение картин и стихотворений в таких случаях бесполезно. А может быть, она просто хотела поскорее отделаться от слишком разговорчивого ученика, неизвестно почему привязавшегося к этой девушке, которая к тому же занималась таким несовременным и малопоучительным делом — пела в церковном хоре.
Еще выше по уровню понимания русской литературы статья А. Гулыги «Воспитание Пушкиным». Центральное место в ней занимает глава «Жизнь — это долг…», общедоступное изложение теории «категорического императива» Канта. «Имя Канта, — сообщает автор, — упомянуто в «Евгении Онегине» не случайно» 44. Разумеется, не случайно, ибо в истинно художественном произведении не бывает ничего случайного. Но комментатор творчества Пушкина забывает сказать, что имя Канта упомянуто в «Евгении Онегине» на предмет характеристики Ленского. Именно Ленский был «поклонник Канта и поэт». А. Гулыга делает из этой немецко-идеальной черты несчастного поэта, которого Пушкин рисует с оттенком легкой иронии, мораль всей русской литературы, хотя оговаривается, что «кенигсбергский мыслитель» не был источником «этической концепции Пушкина». Еще бы! Хотя бы это А. Гулыга оставляет в покое, не пытаясь переиначить.
Впрочем, если не сам Пушкин, то во всяком случае его Татьяна оказывается ученицей Канта и воплощением кантовской идеи долга. В ней, по словам А. Гулыги, выражается торжество «ноуменального характера» над «эмпирическим», увлекающим человека в сторону от его подлинной личности. Эмпирический характер Татьяны нашептывал ей желание завести любовную связь с Онегиным, однако ее ноуменальный характер напоминал о «запретах», и она осталась верна своему «толстому генералу». Подумать только — еще недавно А. Гулыга искал рациональное зерно в сексуальной революции, «ломке традиционных половых отношений», «стремлении женщины к равному сексуальному партнерству»! И вдруг… Теперь он твердо стоит за охрану патриархальной семьи от всяких женских слабостей.
Соблюдение долга решительно отличает Татьяну Ларину от героини романа Толстого Анны Карениной. «А что, если бы Татьяна ответила «да»? — спрашивает А. Гулыга. — Другой великий писатель «проиграл» такой вариант и привел героиню под колеса поезда. Анна Каренина — это та же Татьяна Ларина, только нарушившая долг. Они сходятся в своей бескомпромиссности. Толстой представил нам все смягчающие обстоятельства, мы любим Анну, жалеем ее, готовы оправдать ее. Тем не менее мы понимаем: для русской женщины того времени другой путь, кроме пути Татьяны, был заказан. Путь «русских женщин» воспет Некрасовым. Это бескомпромиссное служение долгу и добру»45.
Вот уж, действительно, вымазал дегтем ворота Анны Карениной! Не зря А. Гулыга вывел мораль из запретов, и недаром он еще во времена «Общества воинствующих безбожников» увлекался девушкой, певшей в церковном хоре. Жалко Анну Каренину, однако долгу, добру она не служила. Вот если бы осталась верна своему чинодралу — тогда другое дело, это по Иммануилу Канту.