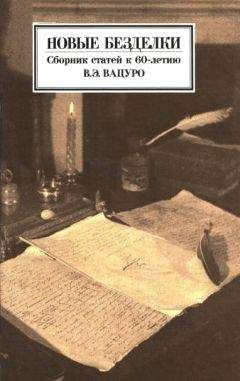Изображение подвигов скандинавских воинов проецировалось на совсем недавние события — антинаполеоновский поход русской армии. О таком проективном задании свидетельствует не только аллюзионная формула «галлов бич и страх», но и то обстоятельство, что Батюшков вскоре перенес ряд образов и фразеологических формул из «шведской» элегии в «Переход через Рейн»[231]:
Тебе он обречен, о бог, властитель брани И провиденьем обречен
Всегда и всюду твой! Царю, отчизне благодарной!
Там чаши радости стучали по столам, Костры над Рейном дымятся и пылают!
Там храбрые кругом с друзьями пировали И чаши радости сверкают!
Где вы, отважные толпы богатырей.
И час судьбы настал! Мы здесь, сыны снегов,
Вы, дикие сыны и брани и свободы, Под знаменем Москвы, с свободой и громами,
Возникшие в снегах, средь ужасов природы. Стеклись с морей, покрытых льдами…
Средь копий, средь мечей!
(Б, I, 166, 167, 168). И стяги древние средь копий и мечей.
(Б, I, 251, 252).
Двупланный характер «исторического» материала позволяет и центральную фигуру «скандинавской» части элегии — юного воина — также строить на двупланном принципе: в ряде важных моментов персонаж оказывается соотнесен с самим Батюшковым. О такой соотнесенности свидетельствует, помимо прочего, появление в элегии некоторых биографических мотивов, которые можно найти в батюшковской поэзии военных и послевоенных лет. К посланию «К Дашкову», например, отсылает тема клятвы юноши («быть ужасом врагов, // Иль пасть, как предки пали, с славой») и образ хранящего заветы «славы» старого воина с «израненной рукой» (ср. с упомянутым в послании «израненным героем, кому известен к славе путь»). Морское возвращение на родину также связано с биографическим подтекстом, и, конечно, в элегии не случайно использована та же «фоносемантика», изображающая веяние ветра и движение корабля, что и в биографической «Тени друга» («Уж веет кроткий ветр вослед твоим судам» — и «Чуть веял ветерок, едва сверкали волны»). Автобиографична и оставленная на родине невеста: характерно, что приемы изображения влюбленности («Едва на жениха взглянуть украдкой смеет, // Потупя ясный взор, краснеет и бледнеет») перейдут из «шведской» элегии в «Тавриду», связанную с безответным чувством Батюшкова к Анне Фурман («Твой друг не смеет и вздохнуть: // Потупя взор, стоит, дивится и немеет»).
Идеальный мир героики и любви предстает опрокинутой в давно прошедшее проекцией недавних надежд и мечтаний самого Батюшкова: стихотворение пишется уже в ту пору, когда их несбыточность стала очевидной. «Все время в прах преобратило» — это итог не только древней истории, но и совсем свежего личного опыта. Историческое и биографическое как бы сливаются: индивидуальная биография осмысляется как реализация универсального исторического закона.
Таким образом, грань между «объектом» и «субъектом» делалась зыбкой: самый объект оказывался не только пропущен сквозь призму субъективного восприятия, но и сопричастен внутренней жизни субъекта. Его «объективность» делалась во многих отношениях фиктивной. Жизнь внешняя неприметно превращалась в проекцию жизни внутренней. Так готовился переход не только к «унылой элегии» (которая очень многое взяла именно от этого проективного принципа), но и к позднейшим формам философской лирики.
Элегия «На развалинах замка в Швеции» была отражением принципиально нового — остротрагического — взгляда на мир, который окрасит собою все позднее творчество Батюшкова. Особое биографическое преломление этот взгляд найдет в так называемом «Каменецком цикле» — серии элегий, написанных в основном в 1815 г. в Каменце-Подольском, в которых поэтически преломились обстоятельства его неразделенной любви к Анне Фурман. Уже замечено, что каменецкий цикл соотнесен с поэзией Петрарки[232]: сама ситуация вынужденной любовной разлуки была воспринята поэтом сквозь призму петраркистского канона. Но в то же время цикл оказался соотнесен и с поэзией Жуковского — с ее темами, мотивами и образами, с ее стилевым строем и языком.
Такая двойная соотнесенность была не случайной. Мы имели возможность видеть, что сближение Петрарки и Жуковского в художественном сознании Батюшкова происходило еще до начала 1810-х гг. В послевоенные годы восприятие Жуковского как «русского Петрарки» для Батюшкова, видимо, стало принципиально важным. В письме Жуковскому от 3 ноября 1814 г., вдохновляя друга на создание «важной» вещи, достойной его дарования, Батюшков писал: «У тебя воображение Мильтона, нежность Петрарки…» (Б, II, 310). Это, конечно, более чем привычный комплимент: сам выбор Петрарки в качестве объекта уподобления предполагает ощущение глубинного внутреннего родства двух поэтов. Знаменательно и указание на качество, на основании которого осуществляется сближение, — нежность; это понятие, видимо, подразумевает и определенный эмоциональный модус поэзии, и особое свойство поэтического языка. Все эти качества были для Батюшкова особенно ценными: он старательно культивировал их в собственном творчестве.
Как свидетельствует другое письмо Батюшкова к Жуковскому, от августа 1815 г., в каменецкую пору он специально обращается к стихам Жуковского: «…Я их перечитываю всегда с новым и живым удовольствием, даже и теперь, когда поэзия утратила для меня всю прелесть». И далее: «Может быть, придут счастливейшие времена, когда я буду писать, а в ожидании их читать твои прелестные стихи, читать и перечитывать, и твердить их наизусть» (Б, II, 347). Следы внимательного «перечитывания» обнаружились едва ли не во всех стихах Батюшкова этого периода.
В элегии «Пробуждение» Батюшков словно бы возвращается в магический круг образов «Сельского кладбища»: самая тема противопоставления жизни в ее природно-вещной прелести и омертвелой души лирического персонажа оказывается осмыслена в том ключе, что был задан «Сельским кладбищем». Оппозиция: находящаяся в непрерывном движении жизнь — пребывающая в вечной неподвижности смерть, столь впечатляюще выстроенная в «Сельском кладбище», теперь модифицируется: атрибутами смерти наделена душа лирического героя, а не «объективированный» мир усопших поселян. Однако самый принцип противопоставления сохраняется, как сохраняется и способствующая воплощению этого принципа синтаксическая структура:
Дыхание зари, mac утра золотова, …Ни сладость утренних лучей,
Ни крики петуха, ни ранний звук рогов, Предтечи утреннего Феба,
Ни трели ласточки с соломенного крова, Ни кроткий блеск лазури неба,
Ничто не воззовет почивших из гробов[233]. Ни запах, веющий с полей,
Ни быстрый бег коня ретива
По скату бархатных лугов
И гончих лай и звон рогов
Вокруг пустынного залива —
Ничто души не веселит,
Души, встревоженной мечтами…
(Б, I, 186).
Нельзя не заметать, что самые проявления «живой жизни» в обоих произведениях сходны: это ценности не культуры, а природы. И если у Жуковского (как и у Грея) этот выбор был мотивирован самим элегическим объектом — бытием патриархального мира, связанным в первую очередь с природным началом и чуждым «культурным» рефлексиям, то у Батюшкова причины подобного выбора следует искать в состоянии лирического субъекта. В «культурных» ценностях он уже разочарован вполне, и мир природы представляется единственным, что в принципе могло бы примирить его с реальностью печального бытия.