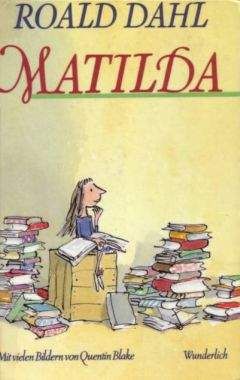Ознакомительная версия.
Можно заметить, как по ходу развития этой фабулы происходит поэтапный уход Логоса из культуры, или – по емкой формуле Зедльмайера – «утрата середины». Что-то подобное этой последовательности событий можно найти во всех доменах культуры модернитета. Но, с другой стороны, не стоит сводить все к хайдеггеровским сказкам о забвении бытия. Культура устроена так, что вместе с приобретением нового опыта осуществляется и попытка компенсировать связанные с этим потери. Поэтому, к счастью, история духа не вовсе лишена поучительности.
Метафизика света, построенная в Средние века на предпосылке совпадения в свете идеального и вещественного (свет, если идти по лестнице эманации сверху вниз, – это последняя ступень идеального и первая ступень материального), в XVII в. решительно распадается на физику света и эстетику света; «люкс» уступает место «люмену». Но, можно сказать, как «реликтовое излучение» метафизический свет сохраняется. Поэтому таким двусмысленным оказался прорыв Караваджо в новую световую эстетику. Вот авторитетная и емкая формулировка караваджизма: «Концепция световой среды – луч, падающий извне в темноту, изолируя, аналитически расчленяя предмет и моделируя его целое с невиданной ранее экспериментальной чистотой, как прямое воплощение факта действительности и одновременно истины о ней, – вместе с тем распахивает «дверь» в бесконечную Вселенную Бруно, в мир без границ. Вырывая из него фрагмент, она удерживает его от поглощения молчанием и мраком безмерности сверхинтенсивной силой не только познания, но страстного, почти визионерского созерцания и лирической самоотдачи…»[4]. Прямое воплощение факта, разрушающее универсум, – это вызов и средневековой, и возрожденческой эстетике. Целому остается негативная роль фона: мрака и ночи. (Многозначительным культурным контрапунктом этого решения оказывается светоносный золотой фон иконописи, символизировавший полноту сверхпространственного бытия.) Целостность реальности у Караваджо раскрывается «через вычленение и изоляцию отдельного (предмета, фигуры, сцены) как фрагмента универсального целого, и последующее интенсивное абсолютизирование его посредством прямой, буквальной проекции на общее – на «мировой фон», на «Вселенную», образ которой дается «отрицательно», в формах чистой абстрактной протяженности, глубина которой заполнена молчанием и тьмой»[5]. Короткое замыкание единичного и всеобщего, факта и универсума – это и есть рождение Нового времени. Мы узнаем это событие и в рождении национальных государств, и в естественном праве, и в новой науке. Иерархия средневекового мира вся построена на включенности отдельного звена в цепь опосредования; система нового мира вся построена на праве прямого контакта конечного с бесконечным. Но не стоит видеть в этом лишь начало распада: согласимся с Гераклитом в том, что путь вверх и путь вниз – один и тот же. Да, свет и тьма демистифицированы, «расколдованы» новым сознанием, но они не потеряли свои символические потенции. Основания, на которых держался «старый режим», исчезли, но работа по интеграции части и целого (главное дело культуры) продолжается на новых основаниях. Диалог света и тьмы – наглядный (в буквальном смысле) пример.
Свет и цвет в XVII в. – союзники (цвет – это в сущности лишь результат конфликта света со средой); шаг за шагом входит в этот союз телесно-пространственных характеристик также и время (как движение, динамичная композиция, историчность, схваченная моментальность…); их общий оппонент – пластический объем; смысл баталии – в завоевании права на новую интерпретацию целого, в переходе от онтологии бытия к феноменологии природы. В статье, о которой речь, описано самое, может быть, необычное решение этой задачи: де Ла Тур вспышкой «медленной молнии» задает тектонику фигур и сворачивает в них все пространство: «Пространственны только тела, но не фигуры, даже и цвет, напротив, действует таким образом, чтобы нейтрализовать эффект пространственности и тем самым сделать центральным персонажем почти каждого полотна эти бесчисленные руки, выносящие пламя свечи»[6]. Век богат и другими световыми решениями и темами. Караваджо, Рембрандт, Веласкес, Лоррен, солярная символика и эмблематика эпохи вместе с понятием «Просвещение» и его мировоззренческим «люмьеризмом» – все это разные (именно разные) версии восстановления утраченной связи человека и универсума. Но похоже, что есть у них и один (по крайней мере) общий пароль, названный в статье. Все они – дальние родственники cogito, главного смыслообразующего акта эпохи. Если в человеке может быть найдена абсолютная точка отсчета (а cogito доказывает именно это), то из любых онтотопологических узлов и лабиринтов человек найдет путь обратно, к единству с бытийным целым.
Не будем забывать, что вторым после самосознания логическим шагом cogito является доказательство бытия Бога: таким образом, перед нами еще и религиозное самоопределение. Соотнести это с теми оптическими cogito, которые были перечислены, – задача не тривиальная, но и не надуманная. XVII в. был, возможно, последним взлетом европейской религиозности, и тудно найти такой домен, который не был бы затронут вероисповедными переживаниями. Так, художники-оппоненты обвиняли друг друга в язычестве, а Караваджо, с точки зрения Кардуччо, и вовсе был Антихристом[7]. Но скорее все было наоборот: интуитивно пережитое cogito позволяло и дать вере новый импульс, и безбоязненно ассимилировать античное наследие. В этом смысле вовсе не формальны, скажем, библейские сюжеты Караваджо и не вполне секулярны мирские сюжеты Рембрандта[8]. Без учета этого мотива малопонятен и де Ла Тур. Вот, например, Жан Тардьё пишет о его героях: «…в них, вокруг них, над ними – втайне от нас и не таясь ни от кого – происходит что-то, чему нет ни начала, ни конца, нечто таинственное и остающееся тайной, повергая в молчание и ужас. Ясно одно: они – посвященные …»[9] Однако завершается очерк такими словами: «Но мы, незнакомые с богословием и наивно любящие плотность тел, […] в твердых кусках мрака, прорезанного световыми кругами, мы, говорю я, угадываем тайну, которая много древнее прочих: тайну величественного рождения форм из отталкивающей полутьмы хаоса»[10]. Проникновенный пассаж первой части очерка позволяет что-то понять в де Ла Туре, тогда как суждение «незнакомых с богословием» – тривиальность, применимая к кому угодно.
Как и положено любой состоявшейся эпохе, XVII в. вырабатывает два (как минимум) конкурирующих образа мира и два языка его репрезентации. Применительно к теме света можно говорить о мире континуума и мире дискретума. Великие ухитряются присутствовать в обоих мирах (потому и великие). Декарт своей знаменитой формулой «ясное и отчетливое» обозначил и предельное состояние континуума (ясное), и предельное состояние дискретума (отчетливое), и мистериальную точку их совпадения – cogito. Де Ла Тур с его контрастным контактом света и тьмы, рождающим атомарно-статуарное тело, действительно находится в одном культурном пространстве с Декартом. На другом полюсе – мастера, созидающее единое континуальное поле, которое включает в себя сложный ансамбль субпространств: Лейбниц, Рембрандт, Веласкес… В этих мирах свет уже не проводит границы, а стирает их («Портрет Иннокентия X» Веласкеса) или делает их ненужными, замещая вибрациями свето-воздушной среды («Менины») и взаимопроникающими планами («Пряхи»). Выдающийся отечественный физик в своем любопытном эссе дает для нашей схемы еще две оппозиции: Тициан – Рембрандт и Ньютон – Гюйгенс[11]. Волновая (Гюйгенс) и корпускулярная (Ньютон) теории света поддаются, как попытался показать М. Волькенштейн, описанию в терминах культурной семиотики XVII в.
В чем, однако, источник того духовного драматизма, который трудно не ощутить, изучая обе эти парадигмы XVII в. (и заметно, кстати, ослабевающего к концу века, с уходом последнего «допросвещенческого» поколения)?
Подсказку находим в статье: «Декарт исследует мир, погруженный в ночь, с помощью внутреннего света, света разума. Он скорее готов стать слепым, глухонемым, сновидцем и даже безумцем, если это позволит на втором шаге мысли не только все вернуть, но и придать миру те необходимые порядок и последовательность, ту «ясность и отчетливость», которая утверждается только Высшим разумом. Вот почему для Декарта нет теней, бликов, игры отражений, вот почему для него, как, впрочем, и для де Ла Тура, и для Расина, тьма и сумерки имеют такую глубокую черноту и так резко отделены от подлинного, ослепляющего света»[12]. Метафизическая «ночь» позволяет избавиться от иллюзий физического дня и обнаружить внутренний свет, родственный «свету-в-себе» («свету невечернему», если угодно). На границе столкновения тьмы и мрака очерчивается таинственная сущность индивидуального, происходит то, что названо в статье «профилированием». «Профилирование и есть этот ослепительный разрыв ночи и именно подчинение самого предела перехода из тьмы в свет единому профилю, в котором лицо получает свою неподвижную границу и покой созерцания»[13]. Подобно тому, как пифагорейские перас и апейрон своим соединением рождают монаду, в свою очередь рождающую числа, так свет и тьма в этой версии рождают личностный профиль, пластический аналог cogito. Таким образом, внутренний нерв визуальных парадигм XVII в. можно определить как попытку сфокусировать, собрать в один центр утраченное самотождество личности.
Ознакомительная версия.