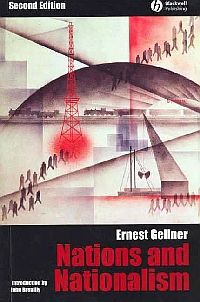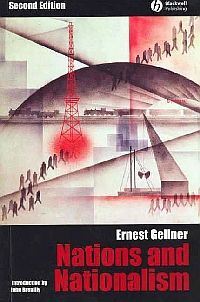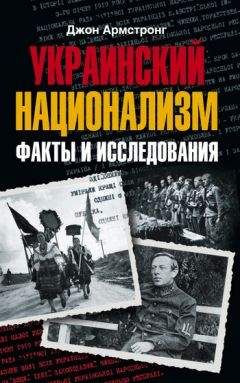Любопытно было бы представить, что случилось бы в Западной Европе, если бы индустриализация и все то, что с ней связано, начались в эпоху позднего средневековья, до развития народных литератур и появления того, чему было суждено стать основой различных национальных высоких культур.
Перспектива развития была, безусловно, у церковного латинского или романского национализма, особенно в сравнении с местными национализмами, которые вырабатывались, подвергая секуляризации уже не трансполитическую церковную высокую культуру, а скорее полуцерковную, полупридворную. Если бы все это случилось ранее, то панроманский национализм получил бы такую же поддержку, как панславизм, столь серьезно воспринятый в девятнадцатом столетии, или панарабский национализм в двадцатом, также основанные на общей церковной высокой культуре, сосуществующей с огромным числом разновидностей на низком, или народном, уровне.
Претерпевая множество одновременных преобразований, именно в таком состоянии находится ислам. Наиболее протестантский из всех великих монотеизмов, он постоянно подвергается реформации (ислам можно было бы назвать перманентной Реформацией). Одна из множества его последовательных самореформаций, по существу, совпала с зарождением современного арабского национализма и может быть лишь с большим трудом отделена от него. Образование нации и победа реформистского движения представляются частями одного и того же процесса. Распад прочных старых и родовых местных структур, чьи жуткие призраки могут порой сохраняться как некие общие рамки новой централизованной политической структуры, идет рука об руку с ликвидацией культов святых, поддерживавших в прошлом мелкие общинные организации, и с их заменой реформированной индивидуалистической унитаристской теологией, оставляющей верующего один на один с Богом и с обширным, анонимным, не нуждающемся в посредничестве обществом, которое, по существу, и является идеалом националистических устремлений.
Другие высокие культуры осуществляют переход ценой отказа от приверженности прежней доктрине. Содержание доктрин, которых они длительное время придерживались, демонстрирует столь очевидную абсурдность и беспомощность в эпоху эпистемологических (опирающихся на факты) учений, что их прежние достоинства превращаются в недостатки. Их охотно и с радостью скрывают или превращают в «символические» знаки, указывающие на связь с прошлым, на то, что история сообщества уходит в глубь времен, последовательно игнорируя при этом формальное содержание учений.
Это не относится к исламу. В аграрную эпоху ислам был двуликим Янусом. Одно его лицо было обращено к религиозно и социально разнородным сельским жителям и группам, другое было повернуто в сторону более требовательных, знающих, грамотных городских ученых. Более того, догма, ставшая для последних обязательной, была упрощенной, экономной и унитаристской настолько, что могла стать относительно приемлемой даже в новое время, когда причудливый груз, перевезенный ее соперниками на северное побережье Средиземноморья, оказался практически неприемлемым и должен подвергаться незаметному и бесшумному устранению. В таком проводимом исподволь устранении не было никакой надобности к югу от Средиземноморья — или, если быть точнее, оно уже было осуществлено открыто, с шумом во имя освобождения истинной веры от диких, деревенских, если вообще не привнесенных извне, предрассудков и искажений. Янус утратил одно из своих лиц. Так, в мусульманском мире, и особенно в его арабской части (включая нации, считающиеся «арабскими» и рассматривающие себя как «истинных», нормативных мусульман данной области), национализм, строящийся на едином анонимном территориальном сообществе, принимает доктрины, бывшие ранее достоянием духовного слоя, с гордостью и без колебаний. Идеалы улема (мусульманского духовенства) становятся более реальными, по крайней мере внутри различных территорий государственных наций, чем во времена родовой раздробленности.
Изящность доктрины, простота, ограниченность, строгая унитарность, отсутствие перегруженности интеллектуальными излишествами помогли исламу лучше сохраниться в современном мире, чем другим религиям с более усложненными учениями. Но тогда возникает вопрос, отчего такая аграрная идеология, как конфуцианство [12], не сохранилась еще лучше. Ведь это вероучение было теснее связано с соблюдением нравственных устоев, порядка и иерархии и еще меньше концентрировалось на теологической или космологической догме.
Возможно, однако, что строгая и последовательная унитарность более действенна, чем безразличие к доктрине в соединении с требованиями морали. Нравственные устои и политические принципы агрограмотных обществ по современным меркам слишком неоднозначны. Именно поэтому конфуцианство, во всяком случае под тем же названием и в том же воплощении, не смогло стать приемлемым для современного общества.
Напротив, подчеркнуто чистая унитарность ислама вместе с неизбежной двусмысленностью его конкретных моральных и политических предписаний помогает в ситуации, когда одна и та же религия может одновременно узаконить традиционалистскую власть в Саудовской Аравии или Северной Нигерии и радикалистские режимы Южного Йемена, Ливии или Алжира.
Политические заклинатели имеют возможность вырабатывать свой жаргон, основываясь на строгой теологии, в то время как они занимаются подтасовкой политических принципов по своему усмотрению, стараясь привлекать как можно меньше внимания. Унитарность с ее порой болезненным отречением от веры в духовное посредничество не разрешает сознанию верующих поддаться интеллектуальным преобразованиям, превратившим религию, которая некогда имела дело с наследованием верблюдов, в веру, предписывающую или запрещающую в зависимости от обстоятельств национализацию нефтяных богатств.
Если ислам уникален в том, что он позволяет распространить великую доиндустриальную духовную традицию на все общество и сделать ее религией нового образа жизни, то национализм многих африканских государств к югу от Сахары интересен как раз тем, что иллюстрирует другую крайность. Он не развивает и не создает местных высоких культур (что часто является затруднительным ввиду отсутствия местной письменной традиции) и не преобразует бывшую народную культуру в новую, письменную, политически узаконенную, как это часто бывало с национализмом европейским. Вместо этого он насаждает чужую, европейскую высокую культуру. Страны Тропической Африки, несомненно, являются лучшим опытным полем для апробирования применения неограниченной власти к принципу национализма, требующему слияния этнических и политических границ. Практически все без исключения политические границы африканских государств к югу от Сахары находятся в противоречии с этим принципом. Черная Африка унаследовала от колониального периода целую сеть политических границ, проведенных совершенно без учета и, как правило, без малейшего знания местных культурных или этнических рубежей.
Одной из самых примечательных и удивительных особенностей послеколониальной истории Африки является едва ли не полное отсутствие националистических ирредентистских попыток исправить такое положение. Усилия, направленные на прекращение использования европейских языков в качестве государственных или приближение межгосударственных границ к этническим, предпринимались нерешительно и крайне редко. В чем здесь причина и почему национализм не заявил о себе в Черной Африке?
Мы уже предположили ранее, что существует дихотомия между «ранним» национализмом с недостаточно развитой коммуникативной системой (когда у перемещенного бывшего сельского населения возникают дополнительные трудности из-за невключенности в новую доминирующую культуру) и «поздним» национализмом, вызванным другими, некоммуникативными причинами. С точки зрения этого существенного различия африканский национализм в целом принадлежит к последнему, сдерживающему энтропию, типу. У его истоков мы не находим рабочих-мигрантов, наталкивающихся у фабричных ворот на грубое обращение мастера, говорящего на другом языке. Те, с кем мы встречаемся здесь, — это интеллектуалы, способные свободно общаться, но с точки зрения реальной власти относящиеся к категории, лишенной прав по одному определенному признаку — цвету кожи. Их объединяют общие лишения, а не общая культура. Явления, связанные с другими типами раннего национализма, в том числе и с недостаточно развитой коммуникативной системой, встречаются тоже и иногда имеют существенное значение. Основой национального конфликта в ЮАР служит именно положение африканского промышленного пролетариата, к примеру роль городских низов в возвышении Нкрумы [13] была совершенно очевидной.