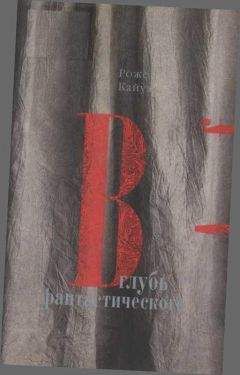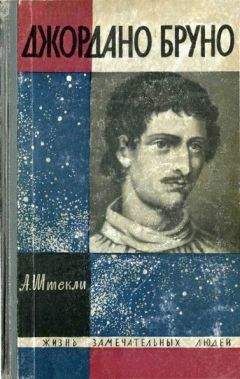Неумолимый кремнезем занял место мягкой целлюлозы; мертвенно-бледную ткань заменила феерия красок: отблески раскаленной печи и пожара, царственные багрянец и пурпур, ядовито-темная лиловость живой изгороди — кричащая пестрота слепит глаза, но не убеждает, не приносит мира.
Ствол остается заключенным в окаменелую, как и он, кору: попытки ее оторвать теперь уже напрасны. Между сердцевиной и заболонью еще различимы концентрические годичные кольца, проводящие каналы, оси роста. Рядом видны радиальные трещины высыхания и смерти. Эта неполная метаморфоза, как и агрессивная полихромия сверкающих минералов, лишает меня дара речи. Я ищу более сдержанных, почти суровых стилистических форм, близких к графике сухой иглы, к «черной» манере. Так, в стволах первобытных пальм мельчайшие спрессованные капилляры напоминают одетые в оболочку провода подводного кабеля. В других породах густо чернильное небо усеяно кляксами звезд, окруженными бисером брызг, выплеснутых вон неудержимой центробежной силой. Иногда на том же гагатовом фоне поблескивают тяжелые мотки витых волокон, стянутых узлами, надежно закрепленных, — игрушки медленных завихрений, напоминающие пучки светлых водорослей, плененные ночным мелководьем.
На этой стадии мир деревьев неузнаваем. Изношенные и опустошенные оболочки растительных форм являют лишь немые тени, размытые временем неразборчивые чертежи. Непроницаема окончательная анонимность сикомор олигоцена, изобилующих в некоторых залежах Орегона. Настойчивое вторжение камня, непрошеная нежность минерала, как нигде, стерли здесь последние следы былого царства. Рисунки и объемы, в свою очередь, загадочны. Мы говорим уже не об окаменелых стволах, последовательные спилы которых разошлись по музеям и среди туристов. Перед нами как будто фрагменты параллельных досок, выпиленных вдоль ствола, а затем разрезанных на куски удобного формата.
Пока что тут нет ничего удивительного: мастер волен изготовить из цилиндрической массы плинтус или обрешетину вместо того, чтобы рубить ее поперек Но если круглые спилы естественно обрамлены корой, то продольные дощечки не должны иметь никакой рамы, поскольку их случайные границы определяет лишь прихоть рабочего. Однако чаще всего они обведены непрерывным коричневато-серым бордюром равной ширины, столь четким, что порой он кажется вычерченным по линейке. Это след геологической работы, для которой потребовались тысячелетия. Древесина уже рассыпалась на мелкие чешуйки, стала почти трухой, когда началась фоссилизация[99] и возникла эта немыслимая бледная рамка.
Чудом скорее можно назвать прямолинейность, а то и прямоугольность этих осколков, издревле наделенных безупречным контуром. Один из них напоминает визитную карточку без угла. Вдоль нижнего края примерно на треть ее длины недостает тонкой полоски, словно кто-то сделал два перпендикулярных надреза ножницами, изъяв таким образом адрес просителя. Отсутствующая часть вдается в плоскость безукоризненно очерченным прямым углом. Вдоль линии отреза неотступно идет кайма цвета слоновой кости.
Немногие фигуры, на мой взгляд, столь же далеки своими очертаниями от облика растительного мира, которому, похоже, по праву принадлежит все, что есть на свете извилисто-гибкого. Оформление странно поврежденного четырехугольника не в меньшей степени контрастирует с тем, как обычно выглядят окаменелые остатки дерева. Здесь нет ни следов какой-либо системы циркуляции или питания, ни микроскопических трубок, ни лучеобразных векторов, ни концентрических колец, ни силовых линий или линий роста: сплошная дымка, туман паров, переливчато-прозрачная размытость, светлый муар, где палево-медовые, смолистые тона сгущаются до темноты обожженной глины — целая гамма оттенков улья, жнивья, гари и плодородной золы. Бесформенное крошево просачивается сквозь сетку из слабо натянутых, колеблющихся нитей, наподобие основы для древних папирусов или расставленных на горном перевале сетей для поимки вяхиря, только еще тоньше, — силки для призрака, для облаков, тенета, которые способны удержать лишь нечто неуловимое, нематериальное.
Длинный шлейф копоти, как колдовские чары или мгла, омрачает праздничное сияние золотого песка и рыже-бурого меха, оттененное синими блестками ночи. То искрятся мелкие вкрапления пиритов, напоминая о невидимой пыльце. Такие же вкрапления по краям, соприкасаясь с воздухом, превращаются в лимонит и образуют светлую раму: она с несомненностью подтверждает статус заключенной в нее картины.
Дерево — существо одинокое. Больно даже представить (хотя такое бывает) два дерева, сросшиеся ветвями. В этом мне видится нечто более чудовищное, чем близнецы с одним телом или одной головой, ибо срастись кончиками пальцев — еще отвратительнее. Сам Данте не решился соединить лишенные кожи ладони Паоло и Франчески. Итак, деревьям присуща независимость, которой другие растения не обладают. Благодаря листве они питаются светом, благодаря корням вбирают соки из гумуса. Они рассеивают семена и выделяют испарения. Тонкий механизм регулирует их обмен с внешней средой и снабжает соками все почки вплоть до самой последней. Расти вертикально — их судьба, и победить ее способен только непрекращающийся сильный ветер. Они стоя ждут старости, дровосека или молнии.
Как все, что дышит и растет, они обречены в конце концов рассеяться, и тогда от них не остается ничего опознаваемого и автономного. Но лишь на них может нисходить благодать минерализации. И случается, что каждая хрупкая клеточка, теперь пустая, теперь уже никчемная, на том самом месте, которое отведено ей в устройстве целого, оказывается заполнена кристаллической массой, сперва еще пластичной, но вскоре неподатливой. Вскоре она станет неуязвимой и для все перемалывающего времени, и для топора, и для удара молнии. Отныне бесстрастный камень занял вместилище жизни, повторив все ее формы, полости, скрытые ячейки.
Странная привилегия эфемерной сущности, созданной даже не из хрупкого известняка, как раковины, — вместо того чтобы разлагаться, она принимает от инертной материи физическое бессмертие, которого не могут обеспечить непрочной человеческой оболочке бальзамировщики, чьи усилия смехотворны. Ссохшееся подобие сломанной куклы — вот и все, что у них получается. Камень, сильный и хитрый, наделен большей властью.
Гордая пирамида прячет ужасную мумию, надгробная скульптура воспроизводит и увековечивает видимость бренного тела. Бессмертный кремнезем, вселившись в поверженный ствол, отныне спас его не только от превращения в торф и от распада. Алхимия, его преобразившая, удары, под которыми он раскололся, создали из тленного вещества прочные шедевры в готовых рамах для художественных галерей.
Какое творение человеческих рук дальше уносит мечты? В какой картине образ совершенной гармонии явлен убедительнее, чем в окаменелых сикомоpax третичного периода, окрашенных в цвет песка и палой листвы? Сикоморы, псевдоплатаны: их имя напоминает о зрелых смоквах, а в чистом звучании гласных слышится обетование неизбежного покоя[100].
Девонское наследиеКамни с рисунками — кладовые грез. Это приманка для воображения: оно не успокоится, пока не отыщет в этих коробах какой-нибудь образ. Иллюзорные картины, которые оно скорее проецирует, нежели открывает, целиком зависят от случая — я хочу сказать: от стечения скрытых причин. Вот почему, завораживая своим неизбежно фантастическим, но в то же время произвольным характером, они отчасти так и остаются для нас лишенными смысла. Совсем иначе обстоит дело с окаменелостями: они, напротив, порождены неумолимо-строгой морфологией. В них нет ничего от грезы. Разум вынужден воспринимать их во всей полноте индивидуальной геометрии.
К ним восходит начало архива жизни. Окаменелости не принадлежат царству минералов, хотя и оказались стремительно в него водворены. Новая энергия создала для них небывалую форму, которая означает конец хаоса. Они свидетельствуют не о постоянстве видов, но о неограниченном копировании теперь уже устойчивых образцов. Ракушки-призраки, то вполне целые, то поврежденные, позволяют представить первую обитель дрожащей эмульсии, которая трепетала всего одно мгновение. На фоне зарева тонкие, кольчатые, острые ракеты во все стороны разметало в толще материи, лишенной памяти, — их опустевшие кабины отныне недвижны и бессмертны.
Скелеты, из которых жизнь выжата до капли, однажды обратились в камень. Многоярусные высотные здания, напоминающие шипы, бессмысленно заостренные пирамиды, зубы нарвала, не витые, а вытянутые, как башни, рассеяны в застывшей массе. Среди этих шпилей сплющенные спирали других жилищ, закрученные, как бараний рог Юпитера Амона, но компактные и круглые, словно диск дискобола, запечатлевают космическое движение туманностей, доносят в недра осадочных пород чистое эхо пустого пространства.