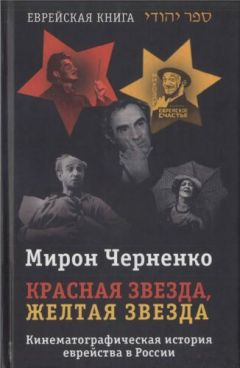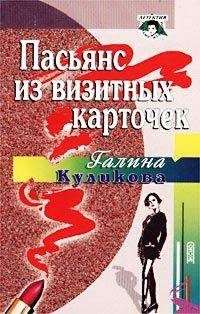Тем более что в этом анахроничном для самой власти вынужденном соблюдении интернационалистского антуража попадались казусы совсем уж анекдотические: в частности, в такой духоподъемной ленте, как «Третий удар» (одной из последних лент, посвященных Отечественной войне, — партия решила, что народ устал от военных воспоминаний, и надо, поелику возможно, стереть их из его памяти), где роль еврейского генерала армии Якова Крейзера играл вполне славянский Иван Переверзев, а русского матроса Чмыгу, наоборот, еврей Марк Бернес.
Порой на экране по явному недосмотру властей или просто по причине отсутствия свежих инструкций появлялась внешность, ситуация, характер, этническое происхождение которых не удавалось скрыть никакими ассимиляционными ухищрениями. Так, в простодушной сатирической (одной из первых, если вообще не самой первой после многих лет отсутствия сатиры на экране) ленте «Мы с вами где-то встречались», уже в середине пятьдесят четвертого года возвестившей миллионам кинозрителей, что «уже можно», что Гоголи и Щедрины нам не только нужны, но просто жизненно необходимы, никакая сила не в состоянии была бы скрыть уникальную внешность Аркадия Райкина, исполнявшего главную роль некоего абстрактного эстрадного актера по фамилии Максимов, отправившегося отдыхать на юг и обнаружившего, что не все так гладко в советском королевстве. Хочешь не хочешь, а из Максимова во все стороны торчат интонации, жесты, повадки, просто райкинская маска.
Райкин в эти годы начинает появляться на экране почти регулярно: так, в картине «Концерт артистов ленинградской эстрады и театра» (режиссер Ефим Учитель, 1956) он занимает едва ли не большую часть экранного времени, а примерно через год снова возникает на экране, на этот раз в мультипликационном фильме «Знакомые картинки» (режиссер Е. Мигунов, 1957), выступая уже от собственного имени, как главный и единственный персонаж-конферансье, комментирующий неизменные и непреходящие болячки советской действительности.
Это был уже конец эпохи, начало новой — время иллюзий, время надежд на то, что теперь все будет иначе, что вернутся не известные никому конкретно, но очень привлекательные на слух «ленинские нормы партийной жизни». Что не будет репрессий, ГУЛАГа, тем более что вовсю шла реабилитация невинно убиенных, в том числе и жертв сталинского Холокоста конца сороковых — начала пятидесятых годов. Когда казалось, в частности, что и с «пятым пунктом» уже будет все в порядке, и начнется наконец дружба с государством Израиль, которое, правда, позволило себе очередной фортель, напав на братьев-арабов, за что немедленно получило по заслугам в пропагандистской одночастевке «Интервенты, вон из Египта» (режиссер М. Трояновский, ЦСДФ, 1956).
Что же касается игрового кино, то и здесь на первый взгляд начинаются несомненные и, судя по всему, позитивные перемены. Правда, как и прежде, Эммануил Геллер играет в глупой комедии «Драгоценные зерна» (режиссер Артур Роу, 1956) грустного и нелепого аптекаря в крохотном «оживляжном» эпизоде, живьем перенесенном из фильмов конца тридцатых годов, однако появляется и целый ряд картин принципиально иного плана.
К примеру, в традиционном историко-революционном фильме «Поэт», снятом по сценарию Валентина Катаева Борисом Барнетом в 1956 году, действие которого происходит в не названной по имени Одессе в годы Гражданской войны, выступает целый «букет» еврейских персонажей самого разного социального рода и племени, от одного из главных героев картины, местного поэта, аптекаря Гуральника и его жены, мадам Гуральник, всецело положительных персонажей, хотя и сыгранных с изрядной долей привычного филосемитского патернализма — мало того, что они пишут стихи на русском языке, так они еще прячут от интервентов значительно более положительных героев картины, городских подпольщиков. Кроме того, в окрестностях семейства Гуральников можно обнаружить множество весьма подозрительных лиц, прямо и недвусмысленно свидетельствующих о том, что южные окраины тогдашней России были густо заселены народом «пятого пункта» — достаточно назвать фамилии лишь некоторых актеров из массовки, чтобы убедиться в этом: Валентин Гафт, Григорий Шпигель, Эммануил Геллер, Наум Новлянский.
Одной этой картины было бы достаточно, чтобы ощутить перемены, произошедшие за три с лишним года после смерти Сталина в общественном сознании и, как следствие этого, на киноэкране. В то же самое время, правда запоздав на полгода с выходом на экран, была закончена картина по-своему просто революционная, и не только в плане рассматриваемой нами проблематики, но много шире, в изображении минувшей войны на экране. Я имею в виду картину Александра Иванова «Солдаты» по повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», опубликованной сразу же после войны каким-то совершенно чудесным образом и столь же чудесно канонизированной высокой государственной наградой в виде Сталинской премии.
«Солдаты» вышли на экраны в середине 1957 года и стали событием не только одного сезона, оказав несомненное, хотя и не всегда явное, а порой и совершенно неожиданное влияние (пример картины Сергея Бондарчука «Судьба солдата» здесь особенно показателен, принимая во внимание, что сам режиссер и его картина были ярыми и откровенными оппонентами «безгеройного» фильма Иванова) на многие и многие фильмы последующих лет, посвященные Отечественной войне.
Однако, помимо этого, было в «Солдатах» и еще что- то. Был лейтенант Фарбер в абсолютно гениальном исполнении Иннокентия Смоктуновского, на первый взгляд сыгравшего традиционную роль еврейского интеллигентика, невесть каким образом попавшего на фронт вместо того, чтобы отсиживаться в тылу, существа безусловно и стопроцентно штатского, не приспособленного к привычным для окружающих трудностям и передрягам, вызывающего в лучшем случае жалость, а в худшем — раздражение и неприязнь, особенно в тех редких и не слишком убедительных ситуациях, когда он изо всех сил своих пытается «соответствовать», иначе говоря, имитировать, подражать, приспосабливаться. И не случайно в сценарии роль Фарбера была выписана на грани комедии, почти фарса.
Я добавил бы к этому неожиданно пришедшую мне в голову мысль: Смоктуновский родом из мира несоветского, ибо ведет себя не просто как штатский, но как штатский в мире униформ, как человек свободный, не понимающий и не желающий понимать иерархии чинов, партийностей и прочих вещей, несущественных, алогичных в той противоестественной экстерриториальности, которая ограждает его от мира советского, идеологического, тоталитарного. Именно она определяет все его поступки, на первый взгляд почти самоубийственные, немыслимые и в чем-то даже опасные для окружающих — к примеру, прямое, караемое расстрелом на месте нарушение субординации на передовой. Я имею в виду кульминационную сцену фильма — конфликт с майором, по мнению Фарбера, виновным в бессмысленной смерти солдат. И я рискнул бы назвать Фарбера первым свободным евреем на советском экране, хотя — видит Бог — с точки зрения простой человеческой логики никак не понять, каким образом ему удавалось сохранить эту свою свободу, эту экстерриториальность духа за три с лишним десятка советских лет, которые он как-никак прожил до войны.
И с этой точки зрения подчеркнуто, вызывающе штатский облик и жесты Фарбера — проволочные очечки на кончике носа, армейская фуражка на пару номеров больше головы, обтерханная шинелька на сутулой, едва ли не горбатой спине, худые ножки в обмотках, противоестественная в этих условиях вежливость, деликатность, воспитанность, не говоря уже об образованности, — все вместе выглядит, во всяком случае в метафорическом плане, своеобразной антиуниформой, униформой иного мира, где каждый одевается, как хочет и как может, шевелит губами и моргает глазами, как может и как хочет, говорит, жестикулирует, совершает поступки, как может и как хочет. И — как велит ему тот внутренний императив, который определяет все его существо.
Не случайно поэтому именно Фарбер становится центральным персонажем картины, ее осью, вокруг которой вращается, движется, развивается сюжет, а не персонажи традиционные, хотя и существующие в несравненно более реалистической обстановке и с несравненно более достоверными мотивациями, чем железобетонные, а лучше сказать, картонные герои духоподъемных военных лент. И потому он практически исчезает из сюжета, когда картина поворачивается на сто восемьдесят градусов, чтобы заторопиться к бравурному, оптимистическому финалу, — в этом времени и в этом пространстве ему уже нечего делать.
И фильм Иванова остается в истории, продолжая жить и сегодня, благодаря именно Фарберу, благодаря Смоктуновскому.
Как бы там ни было, картина Иванова была, пожалуй, наиболее громким и практически не прикрытым разного рода страховочными вуалями гимном в честь еврейского персонажа, гимном, к сожалению, не имевшим продолжения в обозримом кинематографическом будущем, во всяком случае, на ближайшие десятилетия, до середины восьмидесятых, а может быть, и позже.