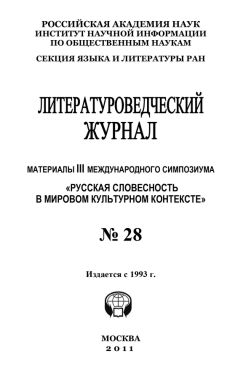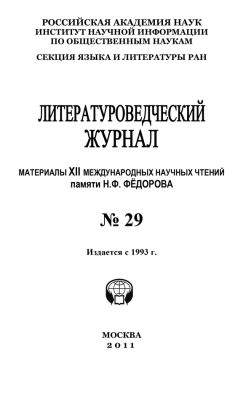Ознакомительная версия.
В таком случае, скажем, «филологическая природа души» Розанова, с любовью отмечаемая Мандельштамом, и в целом «филологическая культура», недаром противопоставляются им «литературе». Здесь еще нет позднейшего – из «Четвертой прозы» – выпада против «литературы», фраз о «литературном обрезании» и инвектив, направленных на современное ему «писательство», как особой «расы», «везде и всюду близкой власти, которая отводит ей место в желтых кварталах, как проституткам». Эта самая «литература», по известным словам Мандельштама, «везде и всюду выполняет одно назначение: помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям чинить расправу над обреченными»7. Почти исчерпывающая характеристика «литературы» наших «совписов», не постеснявшихся затем, когда это стало выгодно, создать миф о своей мнимой «оппозиционности» советской власти.
Хотя этих обвинений еще нет в статье «О природе слова», но все-таки уже имеется ценностная оппозиция «филологии» и «литературы». В аспекте нашей темы эта оппозиция может быть истолкована как противопоставление не только «дома» и «улицы», «семинария» и «лекции», но и «духа» и «буквы». Я бы настаивал на том, что за этой непримиримой коллизией «филологии» и «литературы» мерцает как раз различие их «внутренних форм», или эйдосов, т.е. «логоса» как слова и «литеры» как «буквы». Это различие так же фундаментально, как и новозаветный вопрос: что для чего существует – суббота для человека или человек для субботы. В одном случае мы имеем дело с отчужденными, т.е. внешними человеку «правилами», в другом случае – с его «внутренней» свободой. Потому так и акцентируется именно «внутренний эллинизм» русского языка, что в нем проявляет себя «свободное подражание Христу», которое, по Мандельштаму, и является «краеугольным камнем христианской эстетики». Отсюда и убеждение, высказанное в «Слове и культуре», что «теперь всякий культурный человек – христианин»8.
Еще один момент, как будто лежащий на поверхности, но по каким-то причинам не часто проговариваемый, хотелось бы подчеркнуть. Я имею в виду особого рода надрывный протест против утилитарного подхода к языку. Обращает на себя внимание не абстрактное теоретизирование на тему вредности утилитаризма по отношению к любому языку, вообще языку, языку как таковому. Нет, Мандельштам настаивает на том, что именно русский язык противится сведению его к чисто функциональному, как бы мы сказали сегодня, предназначению. «Ни один язык не противится сильнее русского языка… прикладному назначению»; «Всяческий утилитаризм есть смертельный грех против эллинистической природы русского языка»9. Конечно, с позиции столь ясно выраженной установки, говорить, например, о коммуникативной сущности языка как его якобы основной функции было бы почти непристойным…
Эти утверждения – равно как и представления о бытийственной природе русского языка – созвучны представлениям Вяч. Иванова о том же предмете. Как подчеркивалось выше, сущность русской идеи, согласно Иванову, есть религиозная христианская идея Воскресения, а «уподобление Христу» – «энергия… энергий, живая душа… жизни»10 народа. Этот христоцентризм русской идеи решительно не допускает позднейшие попытки редукции русской соборности до коллективизма, а то и тоталитаризма, предпринимаемые недобросовестными интерпретаторами нашего образа мира. Как раз Иванов совершенно определенно разграничил два противоположных типа человеческой общности, художественно раскрытыми в свое время Достоевским: легион и соборность. Если нехристианский, а затем и открыто антихристианский «легион» предполагает «скопление людей в единство посредством их обезличивания», то «соборность» есть «такое соединение, где соединяющиеся личности достигают совершенного раскрытия и определения своей единственной, неповторимой и самобытной сущности, своей целокупной творческой свободы, которая делает каждую изглаголанным, новым и для всех нужным словом. В каждой Слово (о котором мы рассуждали выше. – И.Е.) приняло плоть и обитает со всеми, и во всех звучит разно, но слово каждой находит отзвук во всех и все – одно свободное согласие, ибо все – одно Слово»11. Искажение русской картины мира как в изучении нашего языка, так и в изучении нашей словесности проистекало во многом оттого, что «легионеры» получили монопольное право на толкование отечественной филологии.
По мысли Вяч. Иванова, находящегося в то время всецело в русле православной традиции, «признание святости за высшую ценность – основа народного миросозерцания и знамя тоски народной по Руси святой. Православие и есть соборование со святынею и соборность вокруг святых»12. Беда советской филологии состояла в том, что именно эту «высшую ценность» десятилетиями при рассмотрении русской словесности выносили «за скобки» исследовательского внимания, подменяя ее произвольными и внешними по отношению к русскому национальному образу мира категориями и понятиями.
Именно в русском языке, еще раз вспоминая ивановскую статью «Наш язык», можно усмотреть слепок «божественной эллинской речи»; именно через язык, согласно его убеждению, русским «внутренне соприродна… мысль и красота эллинские»; «в нем (владеем мы) преемством православного предания, оно же для нас – предание эллинства». Переклички с приводимыми выше мандельштамовскими формулировками здесь слишком заметны, чтобы о них подробно рассуждать.
Конечно, вспоминая статью «Заметки о поэзии», слишком легко отвести это внутреннее родство двух русских поэтов суровыми и несправедливыми суждениями Мандельштама о реакционной Византии, о желательности «обмирщения» поэтической речи и т.п. Однако никто и не утверждает, что позиции Вяч. Иванова и Мандельштама совершенно совпадают. Мне представляется, что с позиций «большого времени» эти расхождения и несогласия следует понимать как продуктивный для русской культуры диалог двух различных «голосов». В этом контексте понимания, по слишком очевидным причинам, не вполне доступном самим свидетелям культурного слома ХХ в., суждения Мандельштама о «внутреннем эллинизме» русского языка и литературы отнюдь не оппонируют христианскому пониманию русской идеи, а напротив, являются дополнительным аргументом в утверждении этой идеи. Или же, как это выразил С.С. Аверинцев, «греческий язык для нас, русских, все-таки прежде всего не рыдание Аонид… но церковный распев, бережно сохраненный дивящий разброс слов в виноградной кисти Икоса или кондака»13. Тот же Аверинцев при этом мимоходом заметил, что сам Мандельштам «в изучении древнегреческого языка сам-то дальше воспетого им «пепайдевкос» не пошел, путал античную просодию… с тонической, вычитывал про сапожок Сапфо и все прочие эолийские чудеса из переводов Вяч. Иванова»14. Отнюдь не пытаясь оспорить знаменитого филолога, я бы хотел лишь заметить, что задачей данной работы было показать, что в самых неожиданных случаях мы все-таки можем порою угадать глубинное культурное родство того или иного автора с христианским искусством, частью которого и является русская литература, а через нее – и с русской идеей, как ее понимал Вяч. Иванов.
«ЗАПАДНИКИ», ГРЕКОФИЛЫ И ТРАДИЦИОНАЛИСТЫ КАК ЧИТАТЕЛИ «МЕЧА ДУХОВНОГО» ЛАЗАРЯ БАРАНОВИЧА
Е.Ю. Матушек
Александр Белецкий называл главным направлением историко-литературной науки исследование, с одной стороны, восприятия произведения его современниками и ближайшими потомками, а с другой – влияния текстов на дальнейший ход литературного развития1. Автор отмечал, что нужна классификация литературы каждой эпохи по читательским группам, в которых она востребована2. Ученый акцентировал на необходимости изучения взаимоотношений этих групп и писателя. Кто и какие книги читал в XVII в. можно воссоздать по каталогам монастырских, церковных, школьных и частных библиотек, а также по переписке, пометкам на маргинесе, посвящениям книг. Мы постараемся реконструировать круг российских читателей сборника «Меч духовный» украинского проповедника второй половины XVII в. Лазаря Барановича, а также исследовать восприятие этой книги на материале суждений первых читателей.
60-е годы XVII в. отмечены активной европеизацией российского общества. В этот процесс были включены и выпускники Киево-Могилянской коллегии – Симеон Полоцкий, Епифаний Славинецкий, Дамаскин Птицкий, Арсений Сатановский. Лазарь Баранович как реальный представитель западного образования и модернизированной к тому времени украинской церкви также принимал в этом участие. Осенью 1666 г. он прибывает в Москву для участия в церковном соборе. Владыка привозит с собой несколько экземпляров только что изданного сборника проповедей «Меч духовный», который дарит царю и некоторым из его окружения.
Ознакомительная версия.