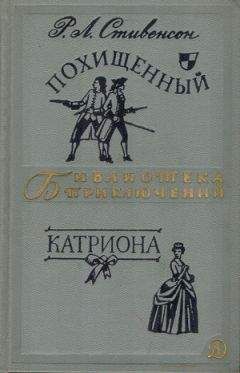сейчас кажется, например, год 1956, 1968 или 1982? В любом случае в книге речь пойдет не только и не столько о такого рода открытых сломах, а о менее наглядных, иногда почти неуловимых перипетиях вроде постепенной моторизации городской среды, созданной для передвижения в каретах, или другого рода трансформаций уличного ландшафта. Интересно, что при пересмотре нашего домашнего фотоархива (классическое занятие во время карантина) нередко оказывалось, что определить точное время и место, где была снята та или иная городская сцена, на вид практически невозможно. Несмотря на наши представления о 1990-х как о «лихолетье», периоде «развала» и всеобщего «краха», фотоглаз не отличает городской пейзаж этой эпохи от тихого «застоя» 1980-х гг. Пример – совершенно запустелая Камская улица в июле или августе 1996 года, больше всего похожая на фото Л. Цыпкина 1970-х годов («Лето в Бадене», 1982).
Учитывая момент написания книги и ее статус памятника тогдашней современности, а не только городскому прошлому и представлениям о нем самих петербуржцев (и/или ленинградцев), я решила: не стоит переделывать текст с оглядкой на эту современность (2021 год). Собственно, давний портрет не «ретушировался». Практически не вмешиваясь в текст, я ограничилась добавлением (и то далеко не везде) примечаний, указывающих на различные перемены последних лет.
Тем временем в главном тезисе книги – одержимости населения Питера [2] местным прошлым – сомневаться не приходилось. Жители Петербурга любят свой город особой, трепетной любовью, и я их понимаю. Надеюсь, что мои новые читатели будут реагировать на изображение любимого города «петербуржцем издалека» с таким же пониманием и заинтересованностью, как прочитавшие ее на английском земляки. В 2017 году поэт Полина Барскова писала мне: «Эта книга захватывает меня; я все время то соглашаюсь, то не соглашаюсь, мне очень интересно читать!» [3] Пусть начнется спор!
* * *
Считаю своим приятным долгом выразить благодарность за реализацию русского издания сотрудникам издательства Academic Studies Press, в частности Игорю Немировскому, Ксении Тверьянович, Ирине Знаешевой и Марии Вальдеррама. Исключительно приятно было сотрудничать с моим наблюдательным, добросовестным и тонким редактором, Ольгой Бараш. Отдельную признательность выражаю Оксане Якименко не только за перевод книги на русский, но и за ценные указания, основанные на ее незаурядном знании городской памяти и городской среды и оказавшиеся весьма полезными для русской версии книги.
Введение
Городская панорама
Моя родина – не Россия, Моя родина – Петербург [4].
Если в беседе с иностранцем произнести подряд слова «память» и «современная Россия», это сразу порождает у собеседника некие ожидания. Часто за этими словами слышится стремление преодолеть прошлое. Все знают про отредактированные фотографии, где от толпы людей остался один Сталин [5]. Слышали и про цензуру печати, требовавшую, например, чтобы из Большой советской энциклопедии исчезла панегирическая статья о бывшем министре внутренних дел Л. П. Берии, в 1953 году объявленном «врагом народа»: для этого библиотекарям предписывалось скрыть ее под дотошно расширенной до нужной длины статьей про Берингово море [6]. Из недавнего можно припомнить попытки превратить школьные уроки истории в уроки патриотического воспитания и триумфаторские торжества на городских площадях в память о Великой Отечественной войне, при том что множество документов, подробно отражающих историю войны, остается недоступным большинству историков [7]. Существует обширнейшая литература о «травматической памяти», о том, какие шрамы оставили в сознании отдельных людей и социума в целом политические репрессии и ужасы войны [8]. В них русские предстают не только как жертвы, но и как виновники преступлений, «могильщики» местных культур и поработители соседних народов [9].
В контексте городских ландшафтов «память» зачастую так же неразрывно ассоциируется у среднестатистического иностранца с монтажом, подгонкой и лакунами: исчезнувшие статуи, замененные топонимы, снесенные или перестроенные до неузнаваемости здания [10]. Даже жители западных стран, никогда не бывавшие в «социалистическом городе», отчетливо представляют себе подобное место: серые дома-башни, красные флаги и где-нибудь в центре гигантский памятник очередному вождю, с презрением взирающий на народ, копошащийся у ног. С другой стороны, воображаемый «постсоциалистический» ландшафт – зрелище в архитектурном плане не менее унылое, только теперь оно оживляется рекламой нижнего белья и плакатами с ковбоем Мальборо, а мрачные бритоголовые мужчины с заросшими щетиной лицами гоняют по улицам на внедорожниках с затемненными стеклами.
Как в шутку заметил П. Вайль в книге эссе «Гений места», «следовать стереотипам удобно и правильно» [Вайль 1999]. На территории Восточной Европы и бывшего Советского Союза, конечно, нетрудно найти места, похожие на вышеописанный воображаемый город [11]. Неудивительно, что «ностальгия» применительно к таким местам воспринимается как патологическое состояние – болезненная одержимость жертв печального заблуждения, даже не подозревающих, в каком ужасном месте они жили. В лучшем случае ностальгия может казаться попыткой сохранить остатки достоинства перед лицом бесконечных лишений, как в старом советском анекдоте про червячка, который спрашивает отца, отчего одни червяки живут в яблоках, другие – в мясе, а «нам приходится жить в этой куче говна». Папа-червяк выпрастывает голову и отвечает: «Потому что это наша родина, сынок!» [12]
Но что происходит, когда речь идет о «постсоветском» или «постсоциалистическом» городе, прошлое которого, до того как он стал метрополией стран Варшавского договора, было достойным и значительным? О таком городе, как Санкт-Петербург? Тогда возникает соблазн счесть социалистический период лишь аберрацией, эпохой, не имеющей никакого отношения к «истинной» идентичности города. Иностранцы всегда были склонны проводить жесткую границу между дореволюционным прошлым города и его советской реальностью (или недавним прошлым). Одна британская учительница, посетившая город в 1980-е, на вопрос, понравился ли ей Ленинград, призналась, что понятия не имеет. В ответ на удивление хозяев она ответила: «Вы показали мне Санкт-Петербург, и он великолепен. Что же до Ленинграда – я его так и не увидела» [13].
Жителям города (как ясно из вышеописанного эпизода) провести такое разграничение куда труднее. В 1991 году на референдуме о переименовании города из Ленинграда обратно в Санкт-Петербург «за» проголосовало отнюдь не абсолютное большинство (54,9 % против 35,5 %). Были, конечно, расхождения и по районам: в Кронштадте за возвращение прежнего имени проголосовало лишь 39,1 % жителей, а в Дзержинском районе, то есть в одном из центральных районов города – 60,8 %. Однако ни в одном из районов за переименование не высказались единогласно [14]. Вернуть городу прежнее имя в конечном итоге означало стереть его советское прошлое – ив первую очередь уничтожить память о невероятных страданиях и героическом сопротивлении ленинградцев во время блокады [15]. Впрочем, название города – лишь один из аспектов отношений с