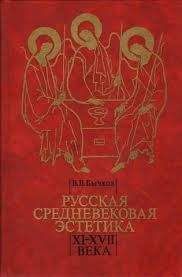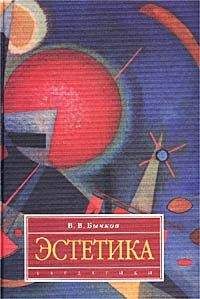Особенно ложна антитеза эрудитов-оболтусов и творцов-разрушителей применительно к истории общественных наук, где наш автор выступает в роли гроссмейстера. Тонкая маэстрия его исторического анализа сталкивается с грубостью фактов и не выдерживает этого испытания. В России, например, уже в восьмидесятых годах прошлого века начался крестовый поход эрудитов-оболтусов против системы общественных идей революционной демократии, наследия Белинского и Чернышевского. Эти сатурналии разрушителей достигли своего апогея в нашем веке — в таких изданиях, как «Вехи», и в целой литературе реакционно-декадентского направления. Правда, оболтусы прежних времен были «темные люди», невежественные и ненавидящие все новое, а оболтусы двадцатого века — те же «темные люди», считающие себя новаторами и «учеными творцами», щеголяющие модным образованием, иногда даже талантливые.
В наши дни дипломированный оболтус-разрушитель становится символической фигурой времени. Он проповедник вечной ломки канонов во всем, от модернизма в искусстве до сексуальной революции. Правда, его «левизна» время от времени нарушается возвращением к самой правой идеологии палки и прадедовской патриархальности. Но здесь уже ничего поправить нельзя, ибо таков фатальный жизненный цикл современного оболтуса-разрушителя. На открытой витрине западного мира мы видим этот повторяющийся цикл с полной наглядностью. О чем говорят западные газеты в настоящий момент, когда я пишу эти строки? О намечающемся повороте от самых крайних, экстремистских извержений всяческой «левизны» и «вседозволенности» к новому консерватизму. Есть даже какой-то запрос на «фашизм с человеческим лицом».
Итак, «разрушение старых систем» не всегда бывает признаком прогресса — смотря какие системы, кто и с какой стороны их разрушает. Обратившись к школьному курсу диалектического материализма, А. Гулыга может сослаться на революционный принцип отрицания старого. Однако подлинная революция — не взрыв абстрактного отрицания. Это «сила хранительная», по выражению Герцена. Когда гниет и разрушается старое, она выступает на сцену как разрушение самого разрушения. Что же касается вечного бунта против систем, принципиальной ломки традиционных взглядов, отталкивания от того, что было вчера, и прочих ходячих фраз, то все это из другой оперы и к диалектике прямого отношения не имеет. Во всяком случае Сократ не был учителем такой философии, скорее, его противники софисты. Поэтому глухая ссылка А. Гулыги на «исторические источники» далека от истины.
Я не хочу сказать, что в его освещении Сократ похож на ибсеновского «врага народа»; напротив, он как бы на стороне демократии, но это не меняет дела. Читателю, может быть, известно, что в современном мире есть много таких демократов, и притом самых «левых», которые смотрят на массу с высоты своего авангардизма, считая ее отсталые идеи и вкусы главным источником общественного зла. Эта сомнительная демократия, основанная на отталкивании от потребностей большинства, — скорее, новая аристократия, требующая свободы для своих анархических выдумок в области культуры. Но не таков был действительный Сократ.
Он вовсе не оригинал, не модернист, не «нарушитель спокойствия». Он не был даже искателем новых богов, в чем его обвиняли сикофанты. Вернее было бы сказать, что Сократ хотел возродить традиционную мифологию своего народа, очистив ее от первобытных нелепостей и толкуя старые
народные представления в более глубоком философском смысле. Так по крайней мере излагает его учение Платон. Худо это или хорошо, но последним словом Сократа было воспоминание о том, что он обещал принести петуха в жертву Асклепию, богу здоровья Можно, конечно, воспользоваться фигурой афинского мудреца в качестве аллегории для всякого рода сценических намеков, но не говорите, что так было на самом деле. На самом деле было совершенно иначе.
Сократ видел, что афинская демократия рождает демагогию с ее плебисцитарными вождями, жаждущими власти, что модернизация всей греческой жизни, основанная на развитии денежных отношений, разлагает общественные нравы и политическое единство города-государства. Он выступал против новаторских веяний в греческой музыке, против влияния изощренных восточных культур Его полемика направлена против авангардизма заносчивых интеллектуалов-софистов. Вы можете не соглашаться с этой полемикой, оправдывая софистов, но нельзя отрицать самый факт его принципиального расхождения с ними.
Да, но Сократ был новатором, не понятым своими согражданами, его высокие идеи победили только в дальнейшем развитии философии и общественного движения. Это так, однако в чем состояло новаторство Сократа? Монтескье однажды сказал, что каждый общественный строй нужно время от времени обращать к его первоосновам Истина состоит в том, что Сократ хотел обратить греческое общество к его первоосновам. Мечтой великого гражданина было вернуть греческой демократии ее сплочение, ее человеческий подъем, ее молодость времен борьбы против персов. В этом и состояло новаторство Сократа, далекое от защиты абстрактной новизны, не знающей и не желающей знать, хорошо или плохо то новое, что рождается в жизни.
Вернуть прошлое Сократу не удалось, но его стремление к «доброму старому времени», как это часто бывает в истории, стало предвосхищением более высокой морали будущего. В основе греческого идеала, как экономического, так и нравственного, лежало требование разумной ограниченности, меры, принцип ненарушения ее ни в погоне за богатством, ни в личном тщеславии. Суть проповеди Сократа состояла в убеждении своих сограждан следовать только необходимому, согласно истинному понятию содержания каждого дела. Но на исходе V столетия до н. э. экономическая действительность и общественный идеал уже далеко разошлись между собой, как это, вообще говоря, свойственно классовому обществу. Они должны были столкнуться, и этот разлад превратился в трагедию Сократа. С тех пор в истории античной общественной мысли совершился перелом к идеализму — мир, основанный на истинной середине, стал другим, более высоким миром, по крайней мере как форма, определяющая строение вещества. Но у самого Сократа, по всей вероятности, это разделение двух начал еще не совершилось, и его учение, более близкое к практической жизни афинской демократии, можно было бы выразить словами Ленина в заглавии его последней статьи — «Лучше меньше, да лучше».
Сократ был консерватором народного идеала, хранителем лучших заветов старины, а это уже казалось преступлением в глазах прогрессивных лавочников его времени, стоявших на страже самых темных привилегий прошлого. Отсюда его подозрительные для них отношения с людьми, не
дружественными демократической партии, как Алкивиад, семейство Аристида, юный Платон. Вполне возможно, что обвинение Сократа — месть со стороны демократических политиков, поскольку самым яростным из свергнутых Тридцати тиранов был ученик Сократа Критий. Но подозрение в сочувствии олигархам не имело достаточно оснований. При господстве Тридцати Сократ не воспользовался возможностью примкнуть к тирании и мужественно отмежевался от нее. Он не примкнул ни к той, ни к другой политической клике его времени, ни к сторонникам сильной власти, ни к демагогам, ведущим за собой толпу. Обе силы были для него порождением общественного распада, нашедшего себе отражение у платных учителей интеллигентности — софистов.
В своих речах на суде Сократ всячески демонстрировал подчинение существующему строю как подчинение «начальникам» на поле сражения, даже если они велят идти на смерть. Здесь есть уже что-то похожее на «разумную действительность» Гегеля. Такое самоотречение в пользу гражданской дисциплины было вызовом беспринципной, выродившейся демократии, пощечиной людям, которые легко могли бы понять с точки зрения принятой софистической морали и заискивание перед судом, и бегство приговоренного к смерти. Они, быть может, даже рассчитывали на это, но Сократ видел в таком поведении измену патриотическому принципу древней политии. В известном смысле можно сказать, что афинский Платон Каратаев был большим демократом, чем сама демократия. Его утопия идеального общественного устройства, изложенная в духе учителя Платоном, предполагает подчинение анархии мелкого собственничества политической организации. руководимой знающим свое дело меньшинством. Разумеется, эта утопия была неосуществима, как всякая утопия, но она имела свое реальное основание в древней политической общине и не раз возникала в умах, повторяясь с различными изменениями везде, где так или иначе выступает диалектика ограниченной демократии и двойственного прогресса.
Условный консерватизм Сократа, его критику жадности афинских обывателей, знавших одну, но пламенную страсть — жажду денег и господства над подчиненными городами, можно по справедливости считать самой передовой позицией греческой мысли в эпоху ее расцвета. Именно отвращение к рабской психологии своекорыстия, растущей из утраты непосредственно общественной связи между людьми, острое чувство недоверия к внешним успехам античной цивилизации сделали Сократа предшественником общественного движения времен первоначального христианства, учителем мудрости, высокой и вместе с тем народной, для Монтеня, товарищем по борьбе для французских просветителей XVIII века, для Чернышевского.