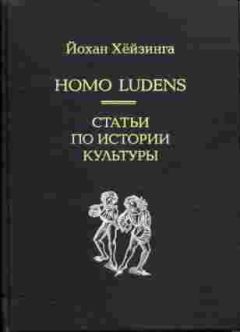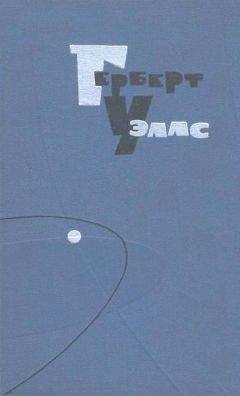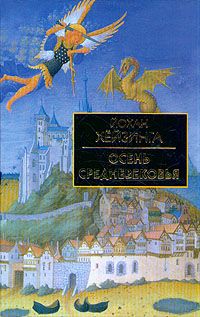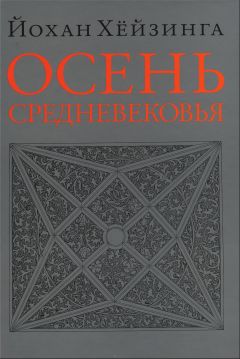Ознакомительная версия.
Если войну агональную и сакральную назвать архаической, это вовсе не будет означать, что на ранних стадиях культуры любая схватка проходила в форме обусловленного правилами боевого состязания или что в современной войне агональному элементу больше нет места. Во все времена существует человеческий идеал честной борьбы за правое дело. Но этот идеал с самого начала искажается грубой действительностью. Воля к победе всегда сильнее, чем самоограничение, накладываемое чувством чести. Хотя человеческая культура может ставить пределы насилию, идти на которое чувствует себя вынужденным то или иное общество, необходимость одержать победу настолько сильно овладевает воюющими сторонами, что людская злоба постоянно порывает со всеми правилами игры и позволяет себе все, что может измыслить рассудок. Архаическое общество очерчивает границы дозволенного, то есть, другими словами, правила игры, непосредственно для тесного круга своих соплеменников или себе подобных. Честь, которой хотят оставаться верными, действенна только для себе подобных. Признавать правила должны обе стороны конфликта, иначе эти правила никуда не годятся. Имея дело с равным противником, люди вдохновляются в принципе чувством чести, с чем связаны дух состязания, требование определенного самообуздания и пр.[305]. Но как только борьба ведется против тех, кого принимают за низших, называют ли их варварами или как-нибудь по-другому, всякие ограничения исчезают, насилие творится в полную меру, и мы видим историю человечества, запятнанную отвратительной жестокостью, которой вавилонские и ассирийские цари гордились как богоугодным делом. Фатальное развитие технических и политических возможностей и далеко зашедшее выкорчевывание нравственных устоев новейшее время почти во всех отношениях сделали бездейственной, даже в условиях вооруженного мира, с таким трудом обретенную конструкцию военного права, когда противник признается равноценной стороной, притязающей на честное и почетное обращение.
На смену примитивному, укорененному в самовосхвалении идеалу чести и благородного происхождения в более развитых фазах культуры приходит идеал справедливости, или, лучше сказать, он примыкает к первому и, при том что на практике воплощение его могло быть достойно крайнего сожаления, в конце концов становится признанной и достойной подражания нормой человеческого общежития, которое тем временем из соприкасающихся между собой племен и кланов разрастается в сообщество больших народов и государств. Международное право берет начало в агональной сфере как представление, что "это было бы вопреки чести, это было бы против правил". Как только система обусловленных международным правом обязательств достигает определенного уровня зрелости, для агонального элемента в отношениях между государствами она оставляет не много места. Ибо она пытается возвести в правовое понятие инстинкт политического соперничества. Сообщество государств, построенное на положениях общепризнанного международного права, не имеет более почвы для агональных войн в пределах своего круга. Но оно при этом вовсе не утрачивает всех черт игрового сообщества. Разделяемые им принципы равноправия противостоящих сторон, дипломатические формы, взаимные обязательства верности договорам и официальное расторжение ранее заключенных соглашений формально уподобляются правилам игры, связующим сообщество государств, в той степени, в какой находит признание сама игра, то есть необходимость упорядоченного человеческого общежития. Но на сей раз эта "игра" сама есть основа всякой культуры. И наименование "игра" здесь приемлемо до некоторой степени лишь формально. Ибо фактически дело зашло столь далеко, что система международного права не обладает больше всеобщим признанием как основа культуры; по крайней мере, относятся к ней с подозрением. Как только члены сообщества государств на практике отвергают обязательность международного права или хотя бы в теории выдвигают на первый план в качестве единственной нормы отношений между государствами интересы и власть своей группы, будь то народ, партия, класс, церковь или государство, то с последним чисто формальным остатком игрового поведения исчезают также всякие притязания на культуру, и общество скатывается до уровня, еще более низкого, чем архаическая культура. Так безраздельное насилие снова вступает в свои "права".
Отсюда явственно следует важный вывод, что без поддержания определенного игрового поведения культура вообще невозможна. Но и в обществе, совершенно одичалом из-за отказа от каких бы то ни было правовых норм, агональный инстинкт вовсе не исчезает, ибо он коренится в самой природе человека. Врожденное стремление быть первым и тогда сталкивает отдельные группы друг с другом и в безумном самовозвышении может их привести к неслыханным крайностям ослепления и безрассудства. Хватаются ли они за устаревшее учение об экономических отношениях как движущей силе истории, провозглашают ли совершенно новое видение мира, чтобы дать имя и форму этой тяге торжествовать над соперниками, в основе всегда речь идет о желании победить, пусть даже известно, что в этом "победить" и речи уже не может быть о "победе".
Состязаться для того, чтобы показать свое первенство, без сомнения, является для культуры в период ее становления формирующим и облагораживающим фактором. На стадиях еще наивного детского сознания и живых понятий сословной чести такое состязание порождало горделивую личную доблесть, неотъемлемую черту юной культуры. И не только это: в неизменных, всегда освященных культом боевых играх вырастают сами культурные формы, развивается структура общественной жизни. Жизнь благородных сословий приняла форму возвышенной игры чести и доблести. Но именно потому, что эта благородная игра в самой жестокой войне может осуществиться лишь в самой незначительной степени, ее следует пережить как эстетическую социальную фикцию. Кровавое насилие лишь в малой части позволяет себя изгнать в благородные культурные формы. Так что духовные силы общества все снова и снова ищут выхода в прекрасных образных воплощениях героической жизни, свершающейся в благородном соперничестве в идеальной сфере чести, добродетели и красоты. Идея благородного единоборства остается, таким образом, одним из сильнейших импульсов культуры. Если она разворачивается в систему боевой атлетики, торжественной коллективной игры, поэтического возвышения жизненных отношений, как в рыцарстве западного Средневековья или в японском бусидо, то эта образность сама будет существенно воздействовать на культурную и личную позицию и деятельность, закаляя мужество и повышая чувство долга. Приведенная в систему благородная битва как жизненный идеал и форма жизненного уклада преимущественно связана с такой общественной структурой, в которой многочисленная военная знать среднего достатка находится в зависимости от княжеской власти, наделенной священным авторитетом, при том что верность своему господину является центральным мотивом существования. Только в таком обществе, в котором свободному человеку не нужно трудиться, может процветать рыцарство с его неизбежной потребностью помериться силами, с его турнирами. Здесь относятся всерьез к игре провозглашения фантастических обетов о свершении неслыханных героических подвигов, здесь уходят в вопросы гербов и флагов, здесь объединяются в ордена и оспаривают друг перед другом ранг или первенство. Только феодальная аристократия имеет для этого время и испытывает к этому расположение. Этот обширный агональный комплекс идей, обычаев и уставов в наиболее чистом виде очерчивается на средневековом Западе, в мусульманских странах и в Японии. Возможно, еще явственнее, чем христианском рыцарстве, проявляется фундаментальный характер всего этого в стране Восходящего Солнца. Самурай придерживался воззрения, что то, что серьезно для обыкновенного человека, для доблестно го лишь игра. Благородное самообладание перед смертельной опасностью — для него это все. Словесная перепалка, о чем шла уже речь выше может возвышаться до благородного рыцарского обычая, в котором противники выказывают свое владение героической формой. К этому феодальному героизму относится также презрение человека благородного происхождения к материальной стороне жизни. Японец знатного пода демонстрировал хорошее воспитание тем, что не знал достоинства монет. Японский князь Кэнсин, воевавший с другим князем по имени Сингэн, жившим в горах, узнал, что третий князь, открыто не воевавший с Сингэном, отрезал путь, по которому доставляли соль. Тогда Кэнсин велел своим подданным вдоволь снабдить своего противника солью, написав ему, что находит такой способ экономической войны достойным презрения: "Я сражаюсь не солью, а мечом"[306]. Вот еще один случай верности правилам игры.
Ознакомительная версия.