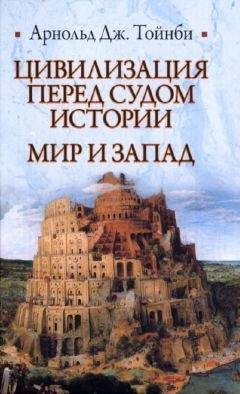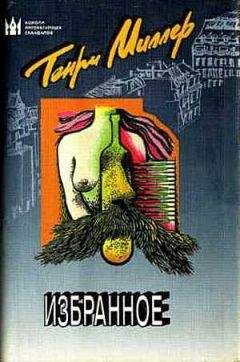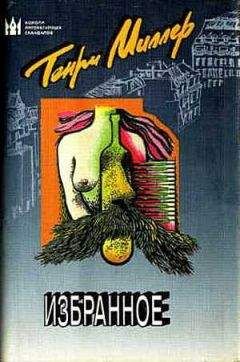случаи применения того или иного слова уже некоторым образом предопределены, «в некоем таинственном смысле должны уже
присутствовать». Но он подчеркивает, что эта машина как символ
не тождественна ни одной действительной, эмпирической машине, так как последняя «может двигаться совершенно по-другому», тогда как для первой, как бы по нормативному условию, такая вероятность отсутствует:
Но когда мы размышляем о том, что машина могла бы двигаться и иначе, то может показаться, что в машине как символе виды ее движения должны быть заложены с гораздо большей определенностью, чем в действительных машинах. Как будто для движений, о которых идет речь, недостаточно, чтобы их последовательность определялась, предсказывалась эмпирически. В некоем таинственном смысле эти движения должны уже присутствовать. И, конечно же, верно: движение машины-символа предопределено иначе, чем движение любой реально существующей машины [Витгенштейн 1994, 1: 159–160].
Поэтому понимание значения не может вытекать из реальных диспозиционных факторов поведения. Диспозиционное объяснение значения может предоставить нам описание поведения, но не может предоставить обоснования поведения, поскольку диспозиция – это не то, о чем можно сказать, что она с чем-либо согласуется или не согласуется [14]. Диспозиционное объяснение не может охватывать нормативность значения. Как утверждает Витгенштейн в § 192 «Философских исследований», диспозиционное объяснение и нормативное объяснение представляют собой две различные картины значения; мы получаем представление об идеально стабильной машине «как итог взаимопересечения картин» [Витгенштейн 1994, 1: 159, 160]. Самый запоминающийся образ взаимопересечения появляется у него несколькими абзацами ниже, там, где он сравнивает нормативные правила с рельсами'.
Откуда возникает представление, будто начатый ряд это зримый отрезок рельсов, уходящих в невидимую бесконечность? Что ж, правило можно представить себе в виде рельса. А неограниченному употреблению правила тогда соответствуют бесконечно длинные рельсы [Витгенштейн 1994, 1: 167].
С этим образом мы еще встретимся в поздних произведениях Толстого.
3. На этом этапе рассуждения мы обозначили, по сути, нормативный аспект схватывания значения выражения, а именно постижение нормативных пределов смысла выражения, его правильного применения в соответствующих обстоятельствах. Мы также определили, что это нормативное отношение не может быть уложено в чисто каузальное или диспозиционное объяснение значения, потому что такое объяснение предполагает нормативное объяснение при заведомом допущении, что диспозиция функционирует правильно. И теперь возникает соблазн утверждать, что должно существовать некое сознательное умственное состояние, в которое укладывается значение и которое отвечает за согласованность поведения человека со значением. Так, я представляю себе образ чего-то красного и обращаюсь к этому образу, чтобы решить, является ли некий находящийся передо мной объект красным и подтверждает ли таким образом предикацию «___является красным». Или же я представляю себе ряд четных целых чисел до последнего из перечисленных, а потом представляю, каким должно быть следующее, чтобы дать правильный ответ на «плюс 2». Или же вызываю из памяти верное правило для выполнения сложения (например, запись чисел в столбик, сдвиг разрядов влево, перенос цифр при необходимости) и пользуюсь им для получения правильной суммы и т. д. Таким образом, сознательное умственное состояние, будь то образ, ощущение, правило или принцип, представляет собой как бы факт значения как такового, обращение к которому обосновывает согласованность поведения человека со значением рассматриваемого выражения.
4. И на этом этапе, согласно прочтению Витгенштейна Солом Крипке, неизбежным кажется скептицизм, ибо скептик спрашивает: когда вы обращаетесь к правилу сложения, чтобы обосновать правильность своего ответа на «плюс 2», а следовательно обосновать, что «плюс 2» означает сложение, откуда вы знаете, что вам нужно прибегать к правилу сложения, а не какому-то другому правилу, и, более того, правилу, которое, может быть, и соответствовало правилу сложения во всех предшествующих конкретных случаях, когда вам приходилось осуществлять операцию «плюс 2», но которое не будет ему соответствовать в каком-то будущем случае? (См. [Крипке 2005: 9-56]). Например, представим себе другое правило – назовем его «квус 2», – которое, как и правило, применяемое для «плюс 2», производит ряд чисел: скажем, 2, 4, 6, 8… и так далее, но согласно которому в какой-то последующей, неизвестной вам точке происходит отклонение от закономерности ряда. Таким образом, когда вы выполняете задание «плюс 2», все ваши ответы согласуются как с правилом сложения, так и с правилом квожения. И поэтому всегда есть вероятность, что вы не поняли значения «плюс 2», так как всегда принимали его за «квус 2», а не за «плюс 2». Но этот эпистемический скептицизм, в свою очередь, порождает метафизический семантический скептицизм [15]. Независимо от того, к какому умственному состоянию вы прибегаете, чтобы обосновать свое понимание смысла выражения, в будущем это умственное состояние всегда может быть истолковано по-другому. Особенно доходчиво это объясняет Дж. Макдауэлл:
На какой бы предмет моей умственной обстановки, приобретенный в результате изучения арифметики, я ни ссылался, скептик всегда найдет повод, чтобы отметить, что все мои сегодняшние действия соответствуют ему только в случае, если он имеет только одну интерпретацию, на самом же деле возможны и другие интерпретации. Поэтому он не может конституировать мое понимание «плюса» таким образом, чтобы продиктовать мне ответ, который я даю. Такой способ понимания потребует не только изначального наличия этого предмета [в моем сознании], но и того, чтобы я интерпретировал его правильно. Но что может конституировать мою правильную интерпретацию того или иного умственного объекта? И этот аргумент можно повторять снова и снова [McDowell 1998: 226–227].
В результате этого аргумента возникает то, что Крипке называет витгенштейновским скептическим парадоксом: не существует ни одного факта, обосновывающего то, что я подразумевал именно «плюс 2», а не что-то иное [16].
5. Существует соблазн отстраниться от скептического парадокса, утверждая, что есть регрессионный стопор – «окончательная интерпретация», которая конституирует и обосновывает значение и объективно устанавливает для значения нормативный охват. В «Голубой книге» Витгенштейн говорит об этом соблазне: «Каждый знак поддается интерпретации, но значение не должно поддаваться интерпретации. Оно является последней интерпретацией» [Витгенштейн 2008: 66]. Это окончательная интерпретация. А в § 218 «Философских исследований» Витгенштейн, как мы уже видели, раскрывает это понятие с помощью метафоры правил как рельсов, образа, к примеру, арифметического ряда, строящегося по принципу «плюс 2» и уходящего в бесконечность (2,4,6,8 и т. д.): «Правило можно представить себе в виде рельса. А неограниченному употреблению правила тогда соответствуют бесконечно длинные рельсы» [Витгенштейн 1994,1:167]. В современном философском речевом обиходе, например в математическом реализме, эту концепцию значения как самостоятельного, объективного факта значения называют «семантическим платонизмом». (См., напр., [Крипке 2005: 56]).
Д. Пирс дает полезное пояснение:
Идея в том, что во всех наших операциях с языком мы действительно едем по фиксированным рельсам,