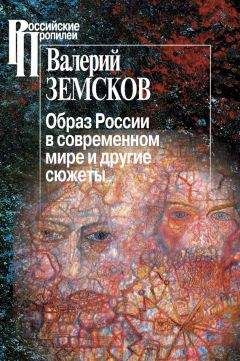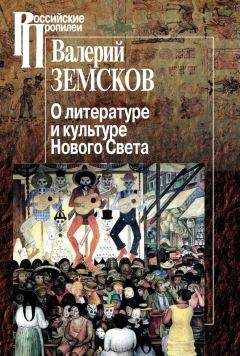Ознакомительная версия.
Естественно, можно обнаружить эти ранее неосознававшиеся «механизмы» в Больших и в малых Историях, создававшихся в Институте мировой литературы, будь то «История всемирной литературы», «История советской многонациональной литературы» или очерки истории национальных литератур[155]. Все они строились на основе господствующего «единственно верного» учения, на идеях «взаимообогащения» и состыковывались с историческими «преданиями», созданными историографией, согласно разработанной ею периодизацией восходящего прогресса.
Что касается «парных» Больших Историй, таких как «Всемирная история» в десяти томах (1955–1965) и «История всемирной литературы» в восьми томах (1983–1994), то исправить, «подправить» их невозможно, как невозможно подправить и общество, их создавшее и канувшее в Лету. А вот что касается очерков истории национальных советских литератур, даже при всей ущербности идеологической схематики, то они, думается, не совсем утратили свое значение – ведь многих малых историй до них просто не существовало, и при всех издержках, цензурных лакунах, неполноте информации и некачественности интерпретации они остаются первыми и занимают свое место в новых, современных попытках переосмысления прошлого, в стремлении возродить забытое, гонимое, запрещенное, воссоздать ранее спрямлявшиеся пути формирования в период до взаимодействия с русско-советской культурой. То, что называлось «младописьменной» литературой, на поверку нередко имело гораздо больший «возраст» в рамках других культур и письменностей.
Но здесь эти «проснувшиеся» национальные литературы поджидали «драконы», способные «пожрать» благие мечтания: этноцентризм, национализм, готовые придумать новые наррации/«рассказы», близкие к мифологическим преданиям. Радикалы призывали порвать с источниками «имперского мейнстрима» (т. е. с русской классикой), найти другие, «антиимперские» ориентации, переписать по образцу западных постколониальных теорий классику, писать «поверх канона» и т. п. В итоге – либо новое искажение истории, либо этнокультурный провинциализм, изоляционизм, новая мифология.
Поиски «новаторских» подходов к жанру Истории литературы стали «мощным аргументом в пользу раздробления Большой Истории на множество конкурирующих историй, написанных с точки зрения той или иной социальной или национальной группы… нет никаких причин не писать историю так, чтобы она отражала именно ваши идеологические интересы»[156], – замечает Андрей Щербенок (Калифорнийский университет, Беркли).
Круг замыкается. И уже кажется честнее откровенная демонстрация научно-культурного шовинизма, нежели всякие маскировки, вроде призыва американского критика, одного из основателей «нового историзма» Стивена Гринблатта к «осторожности» формулировок и к «эпистемологической скромности» (!)[157]. Спасительны ли такие «меры»? В самом деле, если та или иная господствующая общественная, этническая, классовая и т. д. группа редуцирует и «рассказывает» Историю, исходя из своих представлений и интересов, то дальше осознания этого факта двинуться трудно, а скорее невозможно. И снова лбом о стену: возможна ли иная история, некий универсальный нарратив?
Ситуацию проанализировал А. Щербенок: «Пример создания альтернативных национальных историй литературы достаточно наглядно обнажает общую проблему: критика традиционных форм историографических повествований не предлагает им никакой альтернативы. Мы либо полностью отказываемся от написания истории, либо по необходимости используем один из дискредитировавших себя нарративных модусов»[158]. Именно это и делают практики историй национальной литературы на Западе, они либо ничего не слышали о Х. Уайте и его последователях, либо делают вид, что не слышали, и «бесстыдно» пишут свои истории, отражая интересы тех или иных групп.
Озабоченная, встревоженная этим обстоятельством Линда Хатчеон (Университет Торонто, Канада) пытается понять, почему же «телеологические» модели истории не исчезают в нашем, как она пишет, «глобализированном, диаспорном и мультинациональном мире?»[159]Наверное, потому, продолжает она, что «существуют аборигенные (!) культуры (слышится голос как будто бы из колониалистского XIX в. – В.З.) – и для недавно возникших стран-культур глобализация – не позитивное явление, а угроза ассимиляции, континуальности ранее подавленных культур»[160]. Если бы к этому Л. Хатчеон еще добавила, что далеко не все культуры и с давней традицией в восторге от глобализации, то картина стала бы более полной. «Тотальное» оружие против национальных моделей видится канадской исследовательнице в «компаративной, транснациональной истории» национальной литературы[161]. Разумеется, любая национальная литература может быть рассмотрена в фокусе компаративизма, да и в любой «телеологической» модели не обходится без этого. Но американский вариант особый. «Салатной» культуре США подходит «диаспорная» модель, но она не подходит западноевропейским культурам, например, английской, которые не меняют своего облика в целом, несмотря на поощрительную политику в отношении инонациональных писателей. И вообще подобное противопоставление компаративной истории – истории национальной искажает природу сравнительного метода: не единообразие множественности, а множественность как естественное самопроявление мира культуры. Компаративная история, написанная против чего-то, – это странная для науки идея.
В отечественных пределах больше тумана. Радикальные предложения о «чем-то новом», «совсем новом» не кажутся убедительными. Еще в 1997 г. в «Вопросах литературы» на круглом столе – дискуссии о том, какой должна быть история литературы, Татьяна Венедиктова в выступлении «О преимуществе тропинок перед дорогами», утверждая по сути принцип минимализма, говорила о необходимости создания «экспериментальной истории, помнящей… что она игра со временем». «Пространственная, анахронологическая разверстка материала позволяет сополагать далекие, генетически не связанные временные контексты и, наоборот, “взрывать” синхронные образования, обнажая их внутреннюю неоднородность»[162]. Как хорошо было бы, если бы автор проекта предложила хотя бы план такой истории. И какими категориями и понятиями она пользовалась бы, отвергнув весь традиционный аппарат в статье «О пользе литературной истории для жизни», открывающей номер «НЛО» о «Других историях литератур»[163].
Нет каких-либо реальных рецептов в этом специальном номере и у других авторов. Предложения Александра Эткинда ничего нового не прибавляют к тому, что известно и в нашей «тайге». Он воодушевлен идеями введения в историю литературы давних новаций – постколониальной теории, гендерного вектора, делает акцент на творчестве «меньшинств», особенно на замене бинарности (этой первоклетки в любых объяснительных теориях) на триангулярность[164]. Прямое, без затей приложение этой якобы универсальной отмычки к «Капитанской дочке» Пушкина ничего, кроме улыбки, вызвать не может. Что это может дать «новой истории», понять нельзя – ведь в культуре, в литературе действуют суперсложные, а не ординарные арифметические связи из набора от одного до десяти.
Лев Гудков и Борис Дубин в статье «“Эпическое литературоведение”. Стерилизация субъективности и ее цена» подвергли суровой критике все, что было сделано до Большого Отказа, провозглашенного «Новым литературным обозрением», весь «отстойный» категориально-понятийный аппарат: литературный процесс, литературное развитие, стадии, эпохи, периоды, века, поколения, традиция, канон, литературное взаимодействие, творческая история…» и, как добавляют авторы, этот набор иногда дополняется единичными заимствованиями – такими, как «литературная эволюция» Ю. Тынянова, «полифония» и «хронотоп» М. Бахтина[165].
Никаких своих рецептов «Другой истории» авторы не предлагают, и лишь отсылают к «эстетической рецепции» Ханса Роберта Яусса, которого представляют «Завершителем» идей, недодуманных русскими формалистами. Видимо, только с его помощью авторы полагают возможным создание «многомерной истории», основанной на «условно-альтернативных (курсив мой. – В. З.) концепциях»[166].
Очевидно, кризис нанес жанру сильные повреждения. Что такое альтернативная история – понятно, что такое условная история – понять трудно, а скорее всего нельзя. Не из области ли это современного сознания, в котором определенные события, постигшие наше общество, породили странные эффекты. Например, сплошь и рядом слышишь в молодежном сленге условное «как бы», отражающее растерянность и утрату ориентации. Наверное, в результате попытки создания условной истории может получиться в лучшем случае некий «как бы» «теоретический» опус, но никак не «История». А история «институций» литературы, как и поучения в адрес русских формалистов, которые не могут – и к лучшему – им ответить, дальше Яусса не ведут.
Ознакомительная версия.