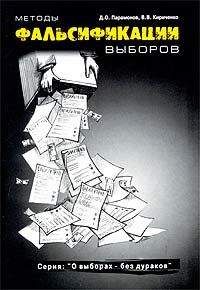Вероятно, именно публичность, выход за пределы узкой общины профессионалов, формирующие новые критерии оценки творчества (в том числе и научного), с точки зрения приверженцев «традиционных научных ценностей», должны представлять гораздо большую опасность, чем целые армии постмодернистов.
О значимости поиска новой внеакадемической стратегии на российской интеллектуальной карте свидетельствует также полемика по поводу книги Проскурина «Литературные скандалы пушкинской поры»[230]. Показательно, что, в отличие от Эткинда[231], этот автор никак не может быть причислен к маргиналам от филологии. Рецензент предъявляет Проскурину обвинение в неуважении к традициям национальной школы потому, что он ощущает глубокую внутреннюю чуждость его творчества своему собственному пониманию традиций «отечественной филологии»[232]. Стратегия сторонника идеологии профессионализма и здесь состоит в том, чтобы вытеснить Проскурина из академического пространства, представив его очернителем отечественной филологии, а следовательно — «чужаком».
Социальная составляющая вспыхивающих то там, то тут конфликтов осознается как проблема некоторыми моими собеседниками. Важным препятствием на пути возникновения диалога между исследователем и обществом они считают отсутствие в российской социальной структуре столь же престижного места, как то, которое, по их мнению, продолжают занимать французские интеллектуалы.
Попытка нащупать новую роль на интеллектуальном поле — сделать свой текст художественным, ярким, интересным широкому читателю, найти выход в публичное пространство и политически заострить свое творчество, — вызвала решительный отпор со стороны приверженцев «традиционной науки», убедительно продемонстрировав, что место встречи научного и публичного дискурса, социальных наук и общественной жизни отсутствует в сегодняшней России. Пересмотр отношений между «исследователем» и читательской аудиторией, признание права последней на существование, протестантский жест устранения посредника — «сообщества ученых» — из общения автора с публикой, прозвучали вызовом.
Идеология профессионализма способна эффективно блокировать поиски нового отнюдь не только благодаря своим ревностным защитникам — сами создатели нового стиля не до конца готовы порвать с представлениями «среды», ощутить себя вне рамок мира «науки» потому, что они во многом разделяют его ценности. Это мешает им осознать свою собственную альтернативную идентичность и научиться эффективно отстаивать ее, несмотря на то что пребывание в рамках единого «сообщества ученых» превращается в настоящую проблему для тех, кто из-за своей способности к нестандартным творческим решениям и литературной одаренности не признается традиционной отечественной академической средой за «своего».
«Некоторые авторы, несмотря на то, что они позиционируют себя как филологи, выходят за границы филологической науки, намечая какие-то новые направления в методологии, и за счет этого они известнее других филологов. Хотя люди, выросшие в московско-тартуской школе, открыто и печатно отказывают им в звании филолога и в принадлежности к профессиональному цеху. Основа этого конфликта состоит в том, что они руководствуются стратегией, далекой от научности в том ее понимании, какое воспитывалось в московско-тартуской школе. Но если с точки зрения московско-тартуской школы это плохо, то с точки зрения читателей — это замечательно, интересно, живо и талантливо написано…. И трагическая ошибка этих авторов состоит в том, что они с упорством, достойным лучшего применения, подают себя как академических ученых, которыми они, конечно, не являются. Они — эссеисты, публичные фигуры, писатели. И они, несмотря на их образование и научные звания, — чужие в академической среде»,
— так расценивает ситуацию Г. Морев.
Камнем преткновения на пути формирования нового дискурса и нового интеллектуального поля остается дефицит новых слов и новых понятий. Например, приверженность понятию «наука» мешает переосмыслить задачи творчества. В самом деле, можно ли продолжать называть наукой такую форму творчества, которой чужды все фобии социальных наук — боязнь предстать идеологией, выглядеть «необъективной» и зависимой от окружающего мира? Но как быть, если для ее обозначения не находится других слов?
«Конфликт фундаменталистов и новаторов состоит в различном понимании роли гуманитарного знания, не хочется говорить науки, но скорее — гуманитарного поиска. Гуманитарная наука является одним из видов самоопределения человека и гражданина в его обществе, культуре, историческом движении. Этим занимается, хорошо ли, плохо ли, искусство, но у гуманитарной науки свои ценности, своя „правда“, которая отличается от „красоты“. Гуманитарная наука есть инструмент, способ гражданского и политического определения в обществе»,
— говорит А. М. Эткинд.
Поиск новых форм взаимодействия с обществом не приводит к созданию новой идентичности. «Гуманитарная наука» остается священной коровой, на которую авторы, восставшие против идеологии профессионализма, не смеют посягнуть. Сколь бы ни были смелы их творческие поиски, они не могут помыслить себя вне истощенного лона социальных наук. Их желание продолжать «делать» пусть «другую», но науку и искать признания непременно в качестве академического ученого не ослабевает. Привычка мыслить на языке идеологии профессионализма не в силах помешать писать на другом языке, но она же не позволяет последовательно отстаивать новую интеллектуальную идентичность и оказывается эффективным способом затормаживания и замораживания постнаучных перспектив.
Может быть, забастовка языка повинна в том, что ни один из тех, кого вихрь нелитературных скандалов отбрасывает все дальше и дальше от бастионов социальных наук, до сих пор не высказал предположения, что на смену исследователю, который видит мир глазами отца-основателя универсальной парадигмы, идет писатель, создатель интеллектуальной прозы, в которой проблемы современного общества обсуждаются сквозь призму сугубо индивидуальной, субъективной — и не обязательно систематически изложенной — философии, а не «анализируются» научными методами на статистически репрезентативном материале?
Правда, некоторые из моих собеседников чувствуют, что в фигуре автора таится что-то новое и, возможно, перспективное.
«Может быть, будущее за конфедерацией таких вот Эткиндов, если они договорятся быть интересными друг другу»,
— размышляет П. Ю. Уваров.
Ощущение, что центр мира больше не в Париже, о чем мы говорили в начале этой книги, посещает время от времени и ее российских героев.
«Вообще-то, город Париж стал выцветать уже в середине века… Структурализм был последней вспышкой перед концом… Провинциализм начался во второй половине XX века, и он нарастает за счет развития мировой экономики, Уолл-стрит, максимального количества денег в минуту…»
— передает это отношение А. Зорин.
Как и для французских новаторов, Америка превращается в Кастальский ключ вдохновения для их российских коллег. И А. Эткинд, и А. Зорин, и О. Проскурин заявили о своей готовности стать под знамена американских теоретиков. Можно было бы ожидать, что они потянулись к американским светилам в надежде найти у них методологические новации, что интерес к работам ученых из США вызван повышенной теоретической озабоченностью российских авторов. Но, вопреки этим ожиданиям, подчеркнутый отказ от теории характерен для всех этих авторов[233].
Действительно, если Зорин предваряет свою книгу кратким введением, описывающим его «интеллектуальные корни», то Проскурин в своей работе «Поэзия Пушкина, или подвижный палимпсест» прямо заявляет о нежелании присягать на верность каким бы то ни было теориям. (В «Литературных скандалах…» он обзаведется знаменем — им станет Хайден Уайт, о чем мы еще будем говорить.) Эткинд даже в своем теоретическом манифесте постоянно от общих рассуждений переходит непосредственно к материалу, как бы следуя той же установке. Начав с негативного определения («…Более ясно, чем не является новый историзм…»), он отказывается от создания когерентной теории или метода: в новом историзме его, в частности, привлекает то, что «методология упакована в материал», «метод трудно обсуждать как таковой»[234]. Эту позицию можно резюмировать словами Проскурина:
«Близкое знакомство с рядом новейших работ убедило его (Проскурина. — Д.Х.) в том, что „системы“, которые могут быть сколь угодно впечатляющими сами по себе, совершенно непригодны для изучения реальных литературных явлений… Автор должен сознаться в известной старомодности своих предпочтений: его интересовала не теория, а поэзия Пушкина. Наверное, от этого книга проиграла в плане „теоретичности“, зато, хочется надеяться, выиграла в других отношениях»[235].