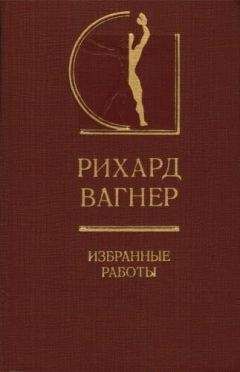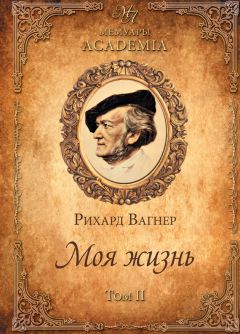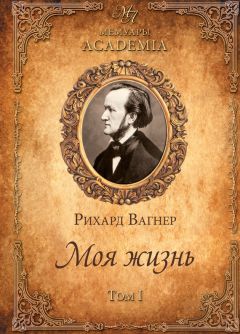Поскольку полагающая границы власть слова исчезла, и музыка, ставшая искусством гармонии, не была в состоянии сама найти для себя закон, определяющий временную меру, ей пришлось обратиться к остаткам ритма и размера, оставленных ей танцем. Ритмические фигуры призваны были оживлять гармонию; их смена, их возврат, их разделение и соединение, должны были уплотнить растекающуюся вширь гармонию — как первоначально слово уплотняло звук — и придать ей временную завершенность. Но в основе этого оживления не лежала внутренняя, требующая чисто человеческого выражения необходимость: ее движущей силой был не чувствующий, мыслящий и целеустремленный человек, такой, каким он выражает себя в языке и в телодвижениях, а внешняя необходимость стремящейся к эгоистическому завершению гармонии. Эта ритмизация, не определяемая внутренней необходимостью, могла оживлять лишь согласно произвольным законам и изобретениям; а этими законами и изобретениями являются законы и изобретения контрапункта.
Контрапункт со всеми своими изобретениями — искусственное порождение, математика чувства, механический ритм эгоистической гармонии. Абстрактной музыке в такой степени пришлось по душе ее изобретение, что она стала считать себя абсолютным, единственно самоценным и самодовлеющим искусством, искусством, которое своим происхождением обязано не какой-либо человеческой потребности, а исключительно самому себе, своей абсолютной божественной сущности. Произвольное представляется себе самому, совершенно естественно, единственно законным. Этому произволу музыка обязана своим самостоятельным поведением, ибо механические продукты искусства контрапункта совершенно не в состоянии были удовлетворить какой бы то ни было душевной потребности. К собственной гордости, музыка превратилась в свою прямую противоположность: душевная потребность стала рассудочной деятельностью, безграничное стремление христианской душе обернулось счетной книгой современных биржевых спекуляций.
Живое дыхание вечно прекрасного благородно чувствительного человеческого голоса, свежо и молодо рвущегося из груди народа, смело карточный домик контрапункта. Оставшиеся верными своей природной грации народные мелодии, внутренне тесно спаянная с поэзией, целостная и четко отграниченная песня на своих упругих крыльях поднялись как вестники освобождения в жаждущий красоты мир ученой музыки. Этому миру снова захотелось показать людей, заставить петь людей, а не дудки; он использовал для этого народные мелодии и создал с их помощью оперные арии. Подобно тому как танец воспользовался народным танцем — в поисках источника свежих сил для своих художественных созданий, в угоду требованиям моды, — так же и оперное искусство поступило с народными мелодиями: оно не стремилось понять целостного человека, чтобы затем предоставить ему действовать только в согласии с художественной необходимостью, оно хотело понять лишь поющего, а в пении искало не народную поэзию с ее животворной силой, а лишь не связанную с поэзией мелодию, которой оно подсовывало модные, условные и пустые слова; воспринималось не живое сердце соловья, а лишь его рулады, которым и старались подражать. Подобно тому как танцор упражнял свои ноги, чтобы, наклоняясь, приседая и кружась, воспроизвести народный танец, который он не мог органически развивать, так и певец заботился лишь о своем горле, о мелодии, которая больше не принадлежала поющему народу и которую он не способен был ни обновить сам, ни дополнить, ни украсить на тысячу ладов. И вместо контрапунктической ловкости воцарилась механическая сноровка другого рода. Отвратительное, непереносимое искажение народной мелодии дает себя знать в оперной арии, ибо она всего лишь обезображенная народная мелодия, лишенная всякого поэтического основания, насмешка над природой, над человеческим чувством, безжизненный и бездумный модный вздор, щекочущий уши тупоумных оперных завсегдатаев. Нет нужды больше распространяться на эту тему; нам только остается с болью признать, что наша современная публика видит сущность музыки в арии.
Но независимо от этой публики и обслуживающих ее поставщиков модных товаров должно было начаться возрождение исконной сущности музыки из ее бездонных глубин во всей полноте ее возможностей, должно было начаться ее освобождение под солнечными лучами всеобщего, единого искусства будущего. И это возрождение началось на той почве, которая является почвой всякого чисто человеческого искусства, — на почве пластических телодвижений, связанных с музыкальным ритмом.
Человеческий голос, бесконечно лепеча все одни и те же потерявшие всякий смысл слова христианских песнопений, превратился в конце концов просто в музыкальный инструмент, и музыка, потерявшая всякую связь с поэзией, оказалась представляющей лишь самое себя. Наряду с голосом различные механические музыкальные инструменты, игра на которых сопровождала танцы, становились все выразительнее и совершеннее. В качестве носителей танцевальной мелодии они стали единственными обладателями ритмической мелодии. Благодаря тому, что они восприняли с легкостью элемент христианской гармонии, на их долго выпало все дальнейшее развитие музыки. Гармонизированный танец является основой наиболее разлитого художественного произведения — современной симфонии. Гармонизированный танец оказался также лакомым куском для контрапункта — последний увел его от его повелительницы пляски и заставил прыгать и вертеться по своим правилам. Но едва в этот мертвый манекен созданного по правилам контрапункта танца проникло теплое дыхание народной мелодии, как он ожил и превратился в человечески прекрасное произведение искусства, которое достигло своего высшего совершенства в симфониях Гайдна, Моцарта и Бетховена.
В симфонии Гайдна ритмическая танцевальная мелодия движется с юношеской свежестью и беззаботностью: ее сплетения, расхождения и схождения, выполненные с высшей контрапунктической искусностью, уже почти не кажутся результатом подобного искусного метода, а точно рождены самим характером танца, подчиненного своим прихотливым законам, настолько они проникнуты дыханием подлинной, человечески радостной жизни. Среднюю часть симфонии, движущуюся в умеренном темпе, Гайдн предназначает для нарастающего развития простой народной мелодии; она раскрывается здесь согласно законам мелоса, свойственным сущности песни, нарастая с большой силой и повторяясь с удивительным многообразием. Эта мелодия становится необходимым элементом симфонии певучего Моцарта. Он вдохнул в свои инструменты взволнованное сладостное дыхание человеческого голоса, к которому его гений питал особую склонность. Неиссякаемый поток гармонии он направил к сердцу мелодии, озабоченный тем, чтобы придать ей, исполняемой одними лишь инструментами, глубину чувства и страстность, свойственные естественному человеческому голосу, этому неисчерпаемому источнику выразительности, основы которого — в глубинах сердца. В то время как Моцарт в своей симфонии, необычайно искусно владея контрапунктом, старался поскорее покончить со всем, что лежало в стороне от его истинных стремлений, — покончить с помощью более или менее традиционных и ставших для него привычными приемов, — он поднял певучую выразительность инструментов на такую высоту, что ей стали доступны не только светлые, безоблачные настроения и тихая, душевная радость, но и вся глубина безграничных стремлений сердца.
Неограниченная способность инструментальной музыки выражать могучие стремления и желания раскрылась Бетховену. Он сумел дать полную свободу самой сути христианской гармонии — этому бездонному морю беспредельной полноты и бесконечного движения. Гармоническая мелодия — так должны мы назвать отделившуюся от стиха мелодию в отличие от ритмической танцевальной мелодии, — исполняемая одними инструментами, обрела безграничную выразительность и допускала теперь самое широкое использование. Как в своих длинных взаимосвязанных частях, так и в меньших, маленьких и мельчайших частицах она превратилась во вдохновенных руках мастера в звуки, слоги, слова и фразы языка, на котором выразило себя нечто неслыханное и несказанное до сих пор. Каждая буква этого языка была наполнена бесконечным душевным содержанием, а мерой их соединения стала неограниченная свобода, которая и нужна музыканту-поэту, стремящемуся к безграничному выражению глубочайших чувств. Счастливый огромной выразительностью этого языка и страдающий под тяжестью своих художнических душевных стремлений, которые в своей бесконечности ни в чем не могли найти удовлетворения, кроме как в самих себе, этот блаженно-несчастный мореплаватель, влюбленный в море и уставший от него, искал надежной гавани, чтобы укрыться от сладостных бурь неукротимой стихий. Если безграничным было его владение этим языком, то ведь безграничны были и желания, оживлявшие этот язык своим вечным дыханием, — как же было выразить утоление своих желаний, их конец на том же языке, который и был выражением этих желаний? Когда пробуждено желание выразить на первичном абсолютном музыкальном языке неизмеримые стремления сердца, то необходимостью является лишь сама бесконечность этого выражения, как и самих стремлений, а не конечное завершение как удовлетворение стремлений, которое может быть только произвольным. С помощью определенного выражения, заимствованного у ритмической танцевальной мелодии, инструментальная музыка в состоянии представить — придав этому завершенный характер — спокойное, вполне определенное настроение именно потому, что мера этого выражения имеет своим источником предмет, первоначально лежащий вовне, то есть телодвижения. Если музыкальное произведение с самого начала ограничено лишь этим выражением, которое всегда в большей или меньшей степени будет лишь выражением веселья, то даже при самом богатом развитии музыкального языка в нем окажется заложенной возможность любого рода удовлетворения с такой же необходимостью, с какой это удовлетворение должно быть чисто произвольным. Поэтому в действительности не будет настоящего удовлетворения в том случае, если это ограниченное выражение будет сочетаться с бурями бесконечного стремления. Переход от бесконечно взволнованного, мятущегося состояния к радостно-удовлетворенному может произойти лишь при растворении стремления в каком-либо предмете. Этим предметом в соответствий характером бесконечного стремления может быть лишь предмет конечный, чувственно и нравственно вполне определенный. Такой предмет ставит вполне определенный предел абсолютной музыке: она не в состоянии, не прибегая к произвольнейшим допущениям, сама по себе представить ясно и четко чувственно и нравственно определенного человека; она остается даже в своих крайних проявлениях только чувством, она может сочетаться с нравственным поступком, но никогда сама не является поступком; она может сопоставлять чувства и настроения, но не может с необходимостью вывести одно настроение из другого: ей не хватает моральной воли.