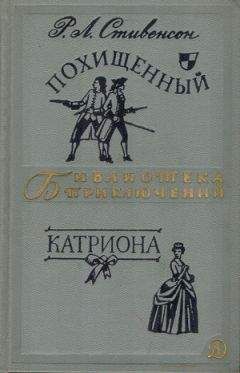123 [566]).
Чувство принадлежности не ограничивалось «пятачком у дома». Согласно данным за 2005 год, большинство жителей Петербурга ежедневно ездило на работу: 87 % экономически активного населения проживало за пределами центра, при этом 40 % процентов этого числа работало в центре. Как выразился философ А. Секацкий, «есть люди, живущие в одной плоскости, которая для них состоит, например, из завода, пивного ларька и квартиры, или даже из библиотеки, кафедры и аудитории», тогда как другие могут «осуществлять траектории между собором и баром» [Секацкий 1995: 7]. Таким образом, «реальный город состоит из “моего маршрута”, “моих траекторий”» [Секацкий 1995: 6].
Те, кто долго жил в городе, рассматривали свои «траектории» как часть своей жизни также в диахроническом плане. Эти траектории входили в их детский опыт, с которым связаны сентиментальные воспоминания:
Ну, вообще где я тусовался? <…> В Овсянниковском садике.
Да. Это вот было у меня. Потом, ну вообще как бы на Советских, со школы идешь, пока все помойки не подожжешь. Пока. А еще был такой фетиш, кода зима надо было разбивать лед. Когда зима идешь там: тын, тын, лед кололи. Очень мне нравилось [567].
Речь здесь идет о центральной части города. Но дети, выросшие в новых районах, могли испытывать к ним точно такую же привязанность. Женщина, выросшая на севере города, вспоминает, что в ее краях, где редкие новостройки стояли среди «бескрайних полей», детей тянуло к аэродрому, к старым невысоким желтым домам неподалеку [568]. Для кого-то из детей и сами поля были пространством для невероятных фантазий [569].
Другой жизненной фазой, в воспоминаниях о которой темпоральная и пространственная ностальгия сливались воедино, было время любви: «У меня вот любимое, ну, такое памятное место – это угол Пестеля, Литейной и Моховой. Мы там гуляли с женой, она за мной заезжала. Когда у меня кончались клинические разборы. Мы там, так сказать, бродили в окрестностях» [570]. Таким образом, человек мог отождествлять себя не только с местом, где он жил на момент рассказа, но и с тем, где он жил прежде. И места для разных фаз самоидентификации могли быть разными (типичной траекторией с конца 1960-х до конца XX века было раннее детство в центре, школьные годы в новостройках, возвращение в центр в студенческие годы в начале 1990-х, а затем, несколько лет спустя, снова переезд в более отдаленные районы, чтобы повысить качество жизни для детей…) [571].
Укреплению соседских отношений способствовали и повседневные привычки. Люди делали покупки в местном магазине, потому что это было удобно, пусть даже они не испытывали привязанности к определенной торговой точке [572]. Чтобы быть в курсе, что где продается или куда идти, когда ближайший «круглосуточный» магазин вдруг закрылся на «технический перерыв» глубокой ночью или ранним утром, надо было «знать места». Поиск подходящего магазина требовал некоторых эмоциональных затрат. Как-то в 2008 году женщина, стоявшая за мной в очереди в киоск «Фрукты-овощи», расположенный в моем доме, заметила: «Все равно покупаю здесь, хотя знаю, что сто раз обманут». В отчужденном мире обыденной жизни большого города даже риск оказаться обманутой хорош именно тем, что служит островком привычного в море непредсказуемости.
Какими бы ни были конкретные стратегии людей в повседневной жизни, «знание местности» никогда не сводилось к простой реакции на местные условия. Скорее, эти условия сами создавались траекториями, которые выбирали люди: убежденностью (пусть и ошибочной), будто в этом магазине персонал вежливее, а очереди короче, чем в том; выбором пути на детскую площадку или мест выгула собак; ощущением, что ты «среди своих»:
На Петроградке очень привыкла, как-то вроде и совсем своя деревня, выходишь – всякая собака знает. <…> Идешь – ну просто вот! Даже чуть подальше отойдешь – ну, рожи знакомые, здороваются – уж кто такие, понятия не имею. Ну ладно, раз здороваются: «Дайте закурить». «Ой, да… ой, счас, это…». Вот [смеется] или что-нибудь, тоже – нет проблем [573].
Но точно такое же поведение за пределами своей территории могли счесть оскорбительным. Границы знакомого определялись четким ощущением того, что воспринималось как чрезмерная фамильярность:
Вот, допустим, люди, которые живут в центре – мне кажется, они какие-то, более… такие, культурные, что ли. Вот. Допустим, выходишь, значит, с Академической. Идешь – там кто-нибудь подходит [хриплым голосом]: «Слушай, дружище, есть закурить, а, там..? А телефон есть, позвонить?» Вот, а когда я иду по Чернышевской, мне там никто ничего не говорит [574].
И все же чувство принадлежности к местности, как бы случайны ни были формировавшие его факторы, всегда было хрупким.
Особенно ярко это проявилось в ходе «приватизации» бывших проходных дворов. Если жильцам домов с проходными дворами это было в радость (позволяло не пустить «их», «чужаков»), то на уровне микрорайона закрытие дворов воспринималось болезненно. Проход через дворы позволял сократить маршрут до автобусной или трамвайной остановки или до станции метро, но смысл этих дворов был не только утилитарным. Умение проложить путь через лабиринт арок и проходов, которого нет ни на одной карте, зависело от знания местности, и потому играло важнейшую роль в «ощущении себя как дома». Когда прежние «траектории свободы» исчезли, неизбежно последовали жалобы на утрату духа общности и всеобщую коммерциализацию [575].
* * *
Какой бы образ жизни ни выбирали жители постсоветского Петербурга, они создавали совершенно иной тип «петербургского текста», нежели тот, который подробно рассматривает в своей знаменитой статье В. Н. Топоров – раз и навсегда установленный набор коммуникативных условностей, ставших каноническими благодаря участию в его создании великих писателей. Взгляд людей на собственную жизнь, безусловно, формировался не без влияния литературы и культурологического анализа, так что даже «антилитературные» заявления зачастую имели «литературный» призвук. Но культурный труд, в который были вовлечены люди, был непрестанной импровизацией. Жители города постоянно находились в процессе освоения ландшафта, определения в нем места для себя и других, формирования отношений между собственной небольшой территорией и большим миром города. Район или «округа» быстро становились частью идентичности человека: прямое заявление о том, что вы ненавидите свой район и с радостью переедете, едва ли выдерживало критику.

3.17. Вид на Сампсониевский собор с Большого Сампсониевского проспекта, 2010
Чувство близости в новостройках было таким же сильным, как и в центре города. Петербургские «аборигены» проводили четкое различие между пригодными и непригодными для жизни районами и кварталами, а если место, где они жили, не