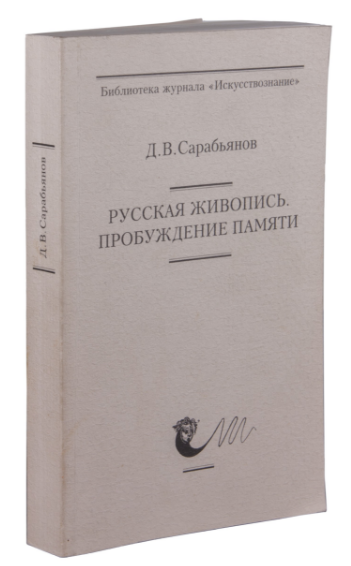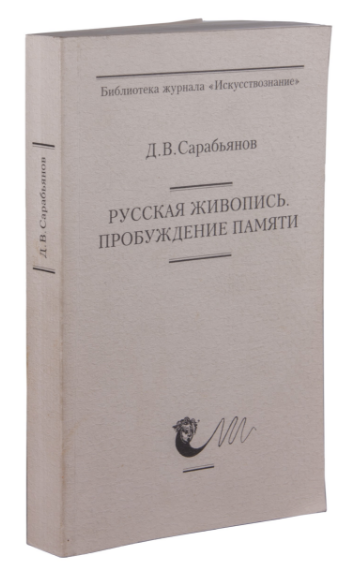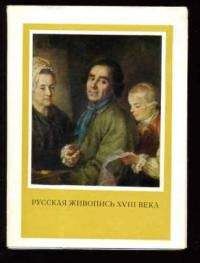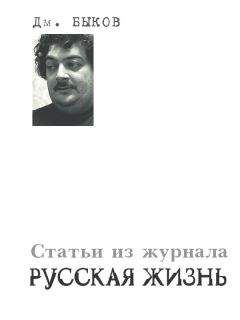найдя в его прямолинейности кратчайший путь к достижению образной цели. Разумеется, в поздних вещах этот мотив был в корне переосмыслен. Но от «шестидесятничества» в нем остались первоначальные, исходные моменты.
Ге — один из немногих художников своего времени, прямо продолжавших традиции романтизма. В отличие от других национальных школ, где романтическая струя тянется сквозь весь XIX век, а под конец дает взлет неоромантизма и символизма, в русской живописи романтическая линия почти обрывается. Ге — тот из редких мостиков, по которому можно совершать переход. Романтическую основу метода он получает непосредственно из рук своих учителей, как бы от живой брюлловской традиции, и проносит ее сквозь все свое творчество.
Драматизм Ге проникнут личностным началом. В любой драме — будь то драма истории, природы или драма современной жизни (а о таких драмах Ге часто рассказывает в своей переписке или в воспоминаниях) — он обязательно выступает как заинтересованное лицо. Он все пропускает через собственное чувство — событие, характер, человеческое состояние.
Причастность к романтизму во многом определила особое место Ге в истории русской художественной культуры второй половины XIX века. Возвращаясь вновь к этому вопросу, приходится констатировать, что от романтической сущности творчества зависят его взлеты и падения и соотношение их с развитием передвижнического искусства, дававшего вариант «чистого» критического реализма. Эти взлеты и падения у Ге и передвижников почти всегда не совпадают. Лишь в самом начале пути художник влился в общее передвижническое движение картиной «Петр и Алексей», которая произвела сильнейшее впечатление на первой выставке Товарищества. Здесь Ге совершил некий синтез: сохранил высокий драматизм события, постиг и передал его значительность, а с другой стороны, воспринял отдельные черты конкретно-исторического жанра предшественников — избрал сюжет из русской истории, достиг бытовой убедительности. Этот синтез чрезвычайно важен для развития русского искусства, но не для самого Ге.
Историческая живопись благодаря опыту Ге смогла подняться на новую ступень. История предстала перед зрителем не просто в бытовых деталях и подробностях, но в столкновении противоборствующих сил. Кроме того, само истолкование образа Петра оказывалось в полном соответствии с новой потребностью в положительном герое и как раз на той стадии развития, когда он мог быть реализован скорее в картине исторической, чем на сюжет из современной жизни. «Петр и Алексей» открыл путь к Сурикову, хотя прямого влияния Ге на Сурикова и не было.
Но то, что было продуктивно для русской исторической живописи, для самого художника и его дальнейшего движения оказалось как бы противопоказанным. Приблизившись или, вернее, почти слившись с основным потоком передвижнического искусства, Ге оказался под угрозой измены своему романтическому существу, что не замедлило сказаться на его дальнейшей судьбе. Последующие исторические картины — «Екатерина у гроба Елизаветы», «Пушкин в селе Михайловском» — означали кризис, падение и решительный отказ от художественного творчества. Сам мастер воспоминал:
«Трех „исторических“ картин мне было довольно, чтобы выйти из тесного круга на свободу, опять туда, где можно найти самое задушевное, самое дорогое — свое и всемирное» [90].
Правда, при этом Ге не упомянул о тех годах молчания и бездействия, к которым привели его эти три картины.
В портрете линия движения была ровнее. Образами Герцена, Салтыкова-Щедрина, Некрасова и другими работами рубежа 60-70-х годов художник влился в общее развитие портретного искусства, которое как раз на рубеже десятилетий переживало существенный перелом. Новый портрет утверждается Крамским, Перовым, и Ге выступает здесь как один из родоначальников движения. Поздние его портреты содержат в себе новые черты, но разница между ними и «передвижническими» не такая, какая существует между «Петром и Алексеем» и поздними «Распятиями».
Итак, кризис в творчестве Ге наступил тогда, когда передвижники приблизились к высшей точке своего развития. Его кульминация совершилась в годы, когда наибольшего успеха достигла тенденция, связанная с прямым обращением к реальности, с утверждением героя-современника, что противоречило позиции Ге, который, как известно, не видел в современности материала для обобщенного образа, идеального героя.
Ге начал выходить из кризиса в 80-е годы, к концу десятилетия преодолел противоречия и достиг высшей точки своего творческого развития. Что касается передвижников, ориентированных на непосредственное постижение реальности, то как раз в это время они оказались перед лицом таких проблем, которые для большинства (за исключением Репина и Сурикова) оказались непреодолимыми и практически поставили точку на их прогрессивном развитии.
Историк искусства никак не может пройти мимо этой закономерности взаимоотношений Ге и его коллег по Товариществу. Как человек, он все время оставался верен передвижническим идеалам. Более того — этическую сущность их программы он выразил с наибольшей силой и последовательностью. Что же касается самого принципа художественного претворения идей, то здесь обнаружилось существенное расхождение, ставшее причиной сложных отношений Ге с передвижниками.
Особенно поразительно творчество художника в самые поздние его годы. В тот момент, когда силы более молодых жанристов, переживших расцвет в 70-е, истощились и они словно не знали, какими путями пойти и за какие проблемы браться, гений уже старого тогда Ге, прошедшего долгий, трудный жизненный путь, испытавшего все тяготы творческих противоречий, цензурных гонений, житейских неустройств, вдруг расцвел, вспыхнул и вскоре сгорел. Это не был расцвет художника-артиста, нашедшего наконец свое время, чтобы выявить мастерство, реализовать накопленный годами опыт. Это было именно горение художника-человека, воплотившего весь свой нравственный потенциал.
Сила выражения моральных проблем естественно объединяет Ге с самыми значительными деятелями русской художественной культуры последних десятилетий XIX века. Здесь могут быть названы имена Толстого и Достоевского. Первый был объектом почитания со стороны живописца и его верным другом; со вторым Ге может сравниться той страстью, которая вложена в художественную идею, и той болью за человечество, которую эта идея в себе несет.
В морали и философии Ге человек оказывается на первом плане. Не гений, не творчество, не абстрактные нормы, а конкретный, данный человек. Достоевский в своем дневнике как-то написал, что «любить общечеловека (то есть идею человека. — Д.С.) значит наверное уже презирать, а подчас и ненавидеть, стоящего подле тебя настоящего человека» [91]. В устах Ге эта мысль получает более наивное, простодушное истолкование. Т.Л. Сухотина-Толстая вспоминает: «„Человек дороже холста“, — сказал он мне раз, когда я досадовала на кого-то, оторвавшего его от работы» [92]. Этот, казалось бы, малозначительный факт, передаваемый мемуаристкой, представляется, однако, чрезвычайно показательным. Любовь к человеку, к каждому человеку, восприятие чужой боли как своей, страстное желание пробудить к добру — этими началами проникнута вся жизнь Ге, особенно его последние годы. И эта жизненная программа прямо реализуется в творчестве. Оно пронизывается