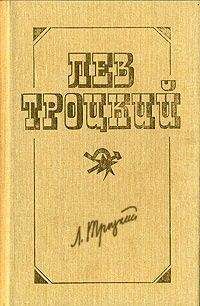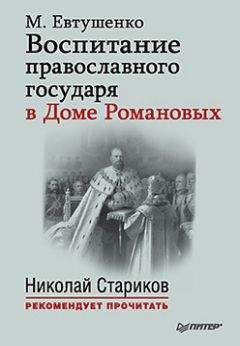Персонажи. Не будет преувеличением сказать, что одним из важнейших факторов перелома, произошедшего в стилистике «оттепельного» кинематографа, является радикальное изменение манеры актерской игры, даже точнее, — способа существования актера в кадре. Не берусь утверждать, что было причиной, а что следствием таких перемен: изменение ли характера конфликта (его смещение к «реальности», «жизненности») повлекло за собой перемены в манере актерской игры (показ персонажей странных, неустойчивых, «незавершенных»), или именно изменение характера героя потребовало новой («реалистической») среды его кинематографического обитания[48]. Но факт остается фактом — именно в этот период происходит коренной перелом в способе существования актера на экране[49]. Это касается походки, жестикуляции, манеры говорить и одеваться: О. Булгакова отмечает, что походка становится более раскованной («фланерская» походка молодых[50] горожан), жестикуляция — менее сдержанной (маркер искренности героев), проявления чувств — более открытыми (герои появляются в обнимку на публике, открыто целуются, в жестах и танцах не скрывается эротизм)[51].
Смена кинематографической парадигмы (от комедии — к киноповести) влечет за собой размывание актерской типажности, а затем и появление актеров драматического, а не комедийного склада[52]. На смену «знаковости» и «образцовости» персонажей С. Столярова, Л. Орловой, М. Ладыниной приходит «обычность»[53] и «узнаваемость» героев Н. Рыбникова, М. Ульянова, А. Баталова, Г. Юматова, В. Шукшина, Н. Мордюковой, И. Макаровой[54]; либо, напротив, появляются принципиально необычные и противоречивые персонажи — Т. Самойловой, И. Гулая, Т. Дорониной.
На эту особенность обращает внимание современная кинокритика и в ней предлагает искать причину ошеломляющей новизны героини Т. Самойловой из фильма «Летят журавли». Как отмечает И. Изволова, самым необычным в этом образе оказалось «несовпадение характера героини с предложенным драматургией ходом событий»[55]. Она непохожа на завершенных, наделенных коллективным знанием героинь советского кино предшествующего периода. Как точно отмечает исследовательница, в Веронике «есть нечто странное, необычное, неустойчивое — в самой пластике героини, в ее осторожной походке, столь не похожей на земную и уверенную походку даже самых нежных и романтических героинь начала 50-х годов. В Веронике Самойловой нет ничего сложившегося, завершенного, <…> лицо Вероники находится в непрерывном движении. Даже застыв от горя, оно не приобретает выражение определенности, пусть даже трагической»[56]. Поэтому, возможно, именно она, как справедливо замечает И. Изволова, является первым частным человеком в советском кинематографе, представляющим только самое себя, а не социальный тип, идею и пр.
«Реальность» изображаемых на экране конфликтов требует от актера необходимость играть не результат (вывод, оценку ситуации), а процесс проживания персонажем жизни во всей ее подробности. Вследствие этого начинают появляться герои сложно организованные и неоднозначные: показываются серьезные недостатки (проступки) у положительных героев (персонаж Н. Рыбникова в «Чужой родне», В. Тихонова в «Дело было в Пенькове», М. Ульянова в «Простой истории», Ю. Никулина в «Когда деревья были большими» и др.), акцентируется обаяние и привлекательность отрицательных персонажей (обаятельные жулики в фильмах Э. Рязанова) или вообще «размывается» оценочная шкала (от невозможности осуждать героиню Т. Самойловой до потерявших себя или изменивших себе героев фильмов «Застава Ильича», «Июльский дождь», «Долгая счастливая жизнь», «Ты и я»). Герои перестают быть «положительными» или «отрицательными» — они разные в различные моменты своей экранной «жизни».
Как отмечает Е. Марголит, позднее появляется герой, основной характеристикой которого станет способность к рефлексии. Важным является его замечание о том, что такого персонажа может создать только интеллектуальный актер, который обладает способностью бездействовать на экране, т. е. переживать происходящее. К такому типу актеров он относит И. Смоктуновского, А. Солоницына, Д. Баниониса, К. Лаврова[57].
Возможно, здесь следует искать секрет нашей непреходящей любви к фильмам этих лет: при всей своей идеологичности (и нашем сегодняшнем несогласии с положениями этой идеологии) именно сложность и неоднозначность персонажей, создаваемых в этот период, позволяет нам рассматривать их как образы, развитие которых часто происходит «вопреки» сюжету (особенно хочется отметить героинь, созданных И. Гулая). Противоречивость персонажей, сложная психологическая организация и тонкая нюансировка их поведения в кадре начинают «взламывать» заданный сюжет, создавая самостоятельные «истории» — истории развития (колебания, мучения, деградации, возрождения к новой жизни) людей, прочитываемые «поверх» идеологичных сюжетов. Конфликт из внешнего становится внутренним: событие приходит не извне (война, репрессии, неурожай), а происходит внутри человека[58]. Событием является само изменение.
Киноязык («фильмическое»)[59]. В своем желании отразить «реальность» киноязык «оттепельного» кино движется между двумя полюсами — субъективизмом и документализмом. В первом случае — это конструирование на экране субъективного авторского видения мира и персонажей (экспрессивный монтаж, субъективная «ручная» камера, необычные ракурсы, крупные планы); такой тип кинопостроения характерен для фильмов М. Калатозова («Летят журавли» и «Неотправленное письмо», оператор С. Урусевский), А. Алова и В. Наумова («Мир входящему» и другие ранние фильмы). Во втором случае — это различные опыты работы с документальностью: от попыток имитировать в игровом кинематографе хроникальный стиль (непарадный показ войны в «Солдатах» и «Проверке на дорогах»); смешение хроники и игрового материала в некоторых фильмах о войне («Иваново детство») — до введения в художественные фильмы «документально» снятых эпизодов (неигровые фрагменты и монологи непрофессиональных актеров в «Истории Аси Клячиной…»; документально снятый большой эпизод поэтического вечера в Политехническом в «Заставе Ильича»; длинные проходы по городу и встреча ветеранов у Большого театра в «Июльском дожде» и др.)[60].
Конструирование «реальности» начинает осуществляться не только на визуальном, но и на вербальном уровне: в «оттепельных» фильмах звуковое пространство организуется при помощи введения в звуковую дорожку фильма городских шумов, нечетких обрывков разговоров, сменяющих друг друга фрагментов радиопередач (наиболее наглядный пример — начало к/ф «Июльский дождь»).
Но, безусловно, самым ощутимым изменением в киноязыке оттепельных фильмов является репрезентация повседневности: «реальность» конструируется за счет намеренного[61] показа бытовых деталей и повседневных практик. Прежде всего это касается появления на экране элементов «неприкрашенной жизни»: бедных и неухоженных коммунальных квартир (например, к/ф «Когда деревья были большими»), обветшалых деревенских домов и бытовых построек («Тугой узел», «Председатель»), времянок и вагончиков сезонных рабочих или строителей («История Аси Клячиной…», «Строится мост»). Столь же непарадно выглядят и персонажи, действующие в этих неприглядных интерьерах: уставшие, небритые, неопрятные, часто плохо одетые, — причем потрепанный вид и хмурый взгляд отныне могут принадлежать и положительному персонажу. Мне представляется очень важным следующее замечание Е. Марголита: «Надо учитывать, что деталь повседневного непарадного быта на экране 50-х годов — явление отчасти аттракционное, по-своему зрелищное, особенно для массовой аудитории, отвыкшей от лицезрения себя на экране. Дождливая погода, разъезженная дорога, коммунальный быт, человек в непарадной одежде, даже небритый — все это аудиторией тех лет воспринималось с обостренной резкостью, обладало самостоятельной смысловой значимостью, для нас ныне почти не ощутимой»[62].
Интересно отметить то, что «реальность» в кинематографе этого периода видится преимущественно черно-белой: возможно, как антитеза цветной утопии фильмов 40–50-х; а возможно, как фильмический аналог «серой» повседневности, позволяющий ее «остранить», а значит, и впервые «увидеть» на экране.
Важно зафиксировать, что существенным отличием этого типа репрезентации является то, что на экране воспроизводятся не знаки (или не только знаки) бытовых практик, а несемантизируемая (не до конца семантизируемая) повседневность. То есть в кинематографе этого периода подробно показанный бытовой антураж призван создавать «эффект реальности»[63]: вещи, предметы, обстановка, своей подробностью и чрезмерностью (тотальностью) дают ощущение «подлинности». Обилие вещей в кадре и показ их повседневного использования начинает работать не столько на характеристику персонажа, сколько на создание внутрикадровой атмосферы.