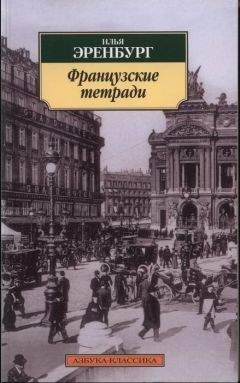Среди пунктов обвинительного заключения «Большой энциклопедии» имеется еще один, самый существенный: поэзия Аполлинера названа «лженоваторской». Мне кажется, что поэтические формы Аполлинера были различными — в одной и той же книге есть песни, напоминающие далекое прошлое, увлечение старыми немецкими романтиками и есть ломка стиха и ритм современности, нечто общее с Уитменом. Не знаю, следует ли назвать стихи Аполлинера новаторскими или просто новыми, но уж никак нельзя приклеивать к прилагательному «новаторские» незаслуженное «лже». А вернее всего сказать, что поэзия Аполлинера была и осталась поэзией, в отличие от лженоваторства и от лжеклассицизма.
Мир человека в XX веке расширился и усложнился, личное начало переплетается с общим, воспоминания с предчувствиями, зигзаги истории с бедой или радостью отдельного человека. Аполлинер был первым поэтом, который это выразил, порой мудро, порой с наивностью ребенка.
Он был не только веселым человеком, но и поэтом утверждения жизни. Он порицал пристрастие к страданиям Бодлера, и вместе с тем его жизнь была заполнена горем «нелюбимого», всевозможными бедствиями — от мытарств юноши до «звездной головы» — ранения полученного на фронте. Он видел связь вещей, больших и малых, — мыслей о своей любимой и деревьев, расщепленных снарядами, солдат, которые пилят доски для гробов, и американцев, которые зарабатывают доллары на военных поставках.
Любовь к жизни в его лирике связывалась с печалью разлуки, утечки часов, хода времени. Одно из наиболее известных стихотворений «Мост Мирабо» посвящено всему этому. Его рефрен: «Vienne la nuit sonne l’heures Les jours s’en vont je demeure» («Приходит ночь, бьют часы, дни уходят, я остаюсь»), непереводимый на другой язык, не может оставить в покое человека, прочитавшего оригинал, настолько он прост, точен, поэтичен и печален. Когда Аполлинера посадили в тюрьму, он писал: «Медленно проходят часы, как проходит похоронная процессия» и тотчас продолжал: «Ты будешь оплакивать час, когда ты плакал, — он пройдет слишком быстро, как проходят все часы».
Андре Бийи, один из близких друзей Аполлинера, говорит, что «новый дух», который поэт защищал в последние месяцы своей жизни, был основан «на любви к жизни и на доверии к человеку. Когда разразилась Октябрьская революция и Россия заключила сепаратный мир с Германией, он не разделял возмущения окружающих его. „Кто знает, — говорил он, — может быть, из всего этого родится нечто великое“. Я не знаю, будь он теперь среди нас, был бы он коммунистом, мне кажется, что он скорее был бы академиком, но бесспорно, что он нас продолжал бы изумлять». Я не знаю, как и Андре Бийи, стал бы Аполлинер коммунистом, — такие догадки произвольны и бесцельны, но вряд ли он стал бы академиком. В XX веке во французской академии было несколько поэтов — Сюлли Прюдом, Клодель, Фернан Грег, Поль Валери, Кокто. Ни один из них не сродни Аполлинеру. А ни Макс Жакоб, ни Элюар, ни Сен-Жон Перс, ни Деснос, ни Арагон не получили зеленого мундира и бутафорской шпаги — все они (каждый по-своему) стремились к подлинно современной поэзии и шли не по столбовой дороге, а по трудным горным тропинкам, как шел Гийом Аполлинер.
1965
В толковом русском словаре сказано о дилетанте: «Человек, занимающийся наукой или искусством без специальной подготовки; имеющий только поверхностное знакомство с какой-нибудь областью знаний». Французский словарь дает несколько другое определение: «Страстный любитель искусства, который им занимается в качестве любителя». Выходит, что дилетант это самозванец, вторгшийся в ту область, где он полуневежда или, в лучшем случае, участник кружка художественной самодеятельности.
А по-моему, Стендаль был гениальным дилетантом. Кто скажет, что у него были поверхностные знания в политике, в экономике, в искусствоведении или что его романы написаны по-любительски? Дилетант это человек, для которого страсть не означает профессии. Для меня Эммануэль д’Астье прекрасный пример дилетанта в положительном смысле этого слова.
Он был одним из руководителей Сопротивления во Франции в годы войны, не будучи профессиональным революционером. Он стал министром первого временного правительства, не будучи профессиональным государственным деятелем. В течение долгого времени он был депутатом Национального собрания, не являясь профессиональным политиком. Он — редактор и вдохновитель одной из самых крупных газет Франции, хотя и не принадлежит к профессиональным журналистам. Он — автор нескольких книг, обладающих большими литературными достоинствами и блистательно написанных, но он не профессиональный писатель.
У д’Астье много вдохновения, много различных страстей и разнообразных способностей, он, пожалуй, слишком человечен, чтобы стать профессионалом в одной области.
У него слишком длинное имя: Эммануэль д’Астье де ля Вижери. Но он сам еще длиннее своего имени. Когда я вхожу в большой зал, где много народу, я его сразу вижу: он торчит над всеми. (Хотя он и сутулится — он долго был морским офицером и привык ходить сгорбившись, чтобы не разбить голову в низеньких каютах.) С виду он больше всего похож на Дон Кихота. Мне обидно, что я ни разу не видел его на Росинанте. Зато много раз я видел, как он вдохновенно штурмовал ветряные мельницы.
Как я сказал, он служил во флоте, много бродяжил по свету, писал книги, восхищался Рембо, Аполлинером, Лотреамоном, Лотье. Потом последовали война, разгром, оккупация Франции; и здесь родился второй д’Астье, вернее, Бертран, руководитель боевой организации «Освобождение». Этот чрезвычайно мягкий, рассеянный человек, любящий книги, размышления, безделие, вдруг оказался не только смелым, но и чрезвычайно энергичным. Его имя связано с освобождением Франции.
Эммануэль д’Астье де ля Вижери — один из последних представителей старой французской аристократии. В его квартире висят портреты его предков; почти все они были министрами внутренних дел; кто у Наполеона, кто у Луи-Филиппа. По странной игре судьбы генерал де Голль, когда он возглавлял правительство Сражающейся Франции, назначил д’Астье министром внутренних дел. Министром он, однако, был недолго: он хотел, чтобы правительство оперлось на народ, в первую очередь на рабочих; а война была уже выиграна, и копье Дон-Кихота было не по сезону.
С самого начала движения Сторонников мира д’Астье играет в нем крупную роль. Мне кажется, что вместе с покойным Ивом Фаржем он был душою этого движения. (Ив Фарж, кстати, тоже был прекрасным дилетантом — и в политике, и в литературе, и в живописи.) В течение одиннадцати лет я встречаю д’Астье на больших конгрессах и маленьких совещаниях; он горячится, спорит, отдает себя целиком делу защиты мира.
В литературе д’Астье создал новый жанр мемуаров; история в его книгах — не большой академический холст, а десятки этюдов, написанных вдохновенно и свободно, — он пишет портреты и сцены событий, ставших уже достоянием историка, со свежестью, с прозрачностью, с любовью художников-импрессионистов. В его описании семи или сорока девяти дней — годы, время, эпоха. Это большое мастерство; и, как писатель, и, как читатель, я радуюсь, что Дон Кихот нашел время между двумя битвами, чтобы написать хорошие книги.
Одну из своих книг д’Астье назвал «Мед и полынь». Может быть, это заглавие подходит не только для всех его книг, не только для него самого, но и для эпохи: любовь и война, надежда и отчаяние, нежность и суровое мужество. Здесь длиннущий Дон Кихот встречается со своим веком.
Стихи о Франции
(1940–1964)
1. «Уходят улицы, узлы, базары…»
Уходят улицы, узлы, базары,
Танцоры, костыли и сталевары,
Уходят канарейки и матрацы,
Дома кричат: «Мы не хотим остаться»,
А на соборе корчатся уродцы,
Уходит жизнь, она не обернется.
Они идут под бомбы и под пули,
Лунатики, они давно уснули,
Они идут, они еще живые,
И перед ними те же часовые,
И тот же сон, и та же несвобода,
И в беге нет ни цели, ни исхода:
Уйти нельзя, нельзя мечтать о чуде,
И все ж они идут, не камни — люди.
2. «Глаза погасли, и холод губ…»
Глаза погасли, и холод губ,
Огромный город, не город — труп.
Где люди жили, растет трава,
Она приснилась и не жива.
Был этот город пустым, как лес,
Простым, как горе, и он исчез.
Дома остались. Но никого.
Не дрогнут ставни. Забудь его!
Ты не забудешь, но ты забудь,
Как руки улиц легли на грудь,
Как стала Сена, пожрав мосты,
Рекой забвенья и немоты.
3. «Упали окон вековые веки…»