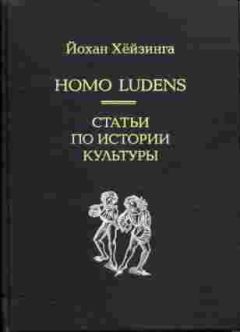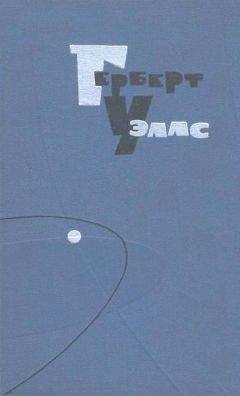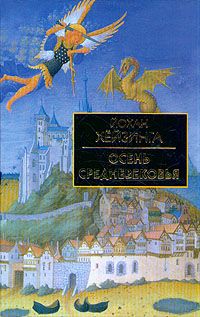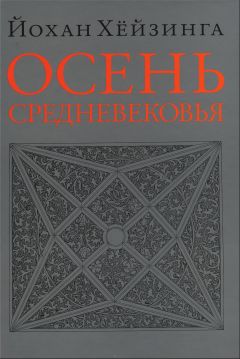Ознакомительная версия.
Если принять эту точку зрения — а не принять ее кажется едва ли возможным — то остается вопрос, в какой мере мы можем констатировать наличие игрового элемента в культурной жизни более поздних, более развитых эпох, по сравнению с архаической, на которую главным образом был направлен наш взгляд. Уже не раз примеры игрового фактора в древней культуре мы иллюстрировали параллелями из XVIII в. или из нашего времени. Именно образ XVIII в. вошел в наше сознание как эпоха, насыщенная игровыми и игривыми элементами. XVIII в. для нас все еще не более как наше позавчера. Возможно ли, чтобы мы утратили всякое духовное родство с этим недавним прошлым? Тема этой книги подводит к вопросу: что составляет игровое содержание нашей эпохи, той культуры, в которой живет сегодняшний мир? Мы не собираемся предлагать читателю трактат об игровом элементе культуры на протяжении веков вплоть до нашего времени. И все же, прежде чем вступить в день сегодняшний, обратимся хотя бы к некоторым страницам истории отдельных, знакомых нам периодов, рассматривая на этот раз не какие-то конкретные культурные функции в их особенностях, но вообще игровой элемент в жизни определенных периодов. Культура Римской империи заслуживает здесь особого внимания уже в силу ее контраста с эллинской. На первый взгляд кажется, что жизнь древнеримского общества несет в себе гораздо меньше игровых черт по сравнению с эллинским. Характер древних латинян, как нам кажется определяется такими качествами, как трезвость, твердость, практическое хозяйственное и юридическое мышление, небогатая фантазия и безвкусное суеверие. Крестьянски-наивные формы, в которых древнеримское общество чает божественного покровительства, отдают запахами земли и горящего очага. Атмосфера римской культуры времен Республики — это все еще настроение тесного кланового и племенного союза из которого все выросли только недавно. Забота о государстве сохраняет черты культа домашнего Гения[534]. Религиозные представления не изобилуют образами. Имеющаяся наготове персонификация всякого представления, на какое-то время удовлетворяющая духовным потребностям, кажется функцией высокой абстракции, на самом же деле ско-рее является примитивным состоянием, близким детской игре[535]. Такие персонажи, как Abundantia [Изобилие], Concordia [Согласие], Pietas [Благочестие], Pax [Мир], Virtus [Добродетель], представляют отнюдь не чисто умозрительные понятия высокоразвитого политического мышления, но материальные идеалы примитивного общества, которое желает подстраховать свое благополучие, по-деловому обращаясь с высшими силами[536]. В этой связи с сакральным страхованием блага большое место занимают различные календарные праздники. Не случайно именно у римлян эти культовые обычаи продолжают носить название игр, ludi. Ибо они были играми. В преобладающем сакральном характере древнеримского общества заключены его глубоко игровые качества, пусть даже игровой фактор выражает себя здесь в цветущей, красочной, живой образности гораздо меньше, чем в греческой или китайской культуре.
Рим вырос в мировую империю. Он овладел всем, чем обладал Древний мир, который ему предшествовал, он располагал наследием Египта и эллинизма, владел доброй половиной Древнего Востока. Его цивилизация в избытке питалась от множества богатейших чужеземных культур. Его государственное управление и право, его дорожное строительство и военное искусство достигли совершенства, какого еще не видел мир, его литература и искусство превосходно привились к греческому стволу. При всем том основания политической структуры оставались архаичными. Ее признанное право на существование по-прежнему покоилось на почве сакральных уз. Как только вся власть оказывается в Руках какого-нибудь политического искателя счастья, тотчас же и его персона, и сама идея его власти попадают в сферу священного. Он сам становится Августом, носителем божественной силы и сущности, спасителем, возродителем отечества, приносящим ему благо и мир, он дарует и поддерживает процветание и изобилие. Все свои робкие жизненные чаяния первобытное племя проецирует на властителя, который впредь считается эпифанией божества. Здесь все это — чисто первобытные представления в новых пышных одеждах. Фигура героя, который дикому, неотесанному племени приносит культуру, заново оживает в отождествлении принцепса с Геркулесом или Аполлоном[537]. А ведь общество, которое несло и распространяло эти идеи, было чрезвычайно развитым. Почитали обожествляемого императора люди, прошедшие через все тонкости греческой мудрости, разума и вкуса, вплоть до скепсиса и неверия. Когда наступившую эру Вергилий и Гораций превозносят в своей изощренной поэзии, они играют в игру культуры.
Государство никогда не бывает в чистом виде учреждением, которое держится на пользе и интересах. Оно застывает на поверхности времен, как ледяной узор на стекле — таким же причудливым, таким же преходящим, определенным такой же кажущейся необходимостью. Культурный импульс, создаваемый не связанными между собою силами самого разного происхождения, воплощается в громоздящейся пирамиде власти, которая называет себя государством, а затем ищет для себя смысла в величии того или иного знатного рода или в превосходстве одного народа перед другими. В выражении своих принципов государство самыми разными способами выдает свой фантастический характер, доходящий до совершенно нелепого и самоуничтожающего поведения. Римская мировая империя проявляла в высшей степени иррациональный характер, маскируемый притязаниями на священное право. Ее социальное и экономическое устройство было вялым и неплодотворным. Вся система снабжения, государственное управление и образование концентрировались в городах в угоду незначительному меньшинству, кичившемуся перед бесправными и пролетариями[538]. Городская единица приобрела в древности настолько сильное значение как понятие и как средоточие социальной жизни и культуры, что римляне неутомимо закладывали и строили сотни городов чуть не на краю пустыни, не задумываясь о том, смогут ли те когда-либо развиваться как естественные органы здоровой народной жизни. Взирая на красноречивые останки этого грандиозного по размаху градостроительства, невольно задаешься вопросом, была ли функция этих городов как культурных центров сколько-нибудь соразмерна с их помпезной претензией? Судя по общему содержанию продуктов позднеримской цивилизации, в этих городах, как бы высоки ни были достоинства их устройства и архитектуры, имелось не так уж много от всего лучшего, что было в античной культуре. Храмы для отправления религиозного культа, который в традиционных формах пришел в упадок и наполнен был суевериями; залы и базилики для государственной службы и судопроизводства, кои при совершенно расшатанной политико-экономической структуре общества мало-помалу вырождались и глохли в тисках вымогательства и чиновной рутины; цирки и театры для кровавых, варварских игр и развратных зрелищ; бани скорее для расслабляющего, нежели закаливающего ухода за телом — все это вместе едва ли можно считать подлинной и прочной культурой. Большая часть всего этого делалась напоказ, ради развлечения и тщеславного великолепия. Это был остов, пустой внутри, остов грандиозной Римской империи. Благоденствие щедрых дарителей, чьи хвастливые инскрипции порождают ощущение кажущегося величия, покоилось на чрезвычайно шатком фундаменте. Оно должно было рухнуть от первого же удара. Снабжение продуктами питания обеспечивалось недостаточно. Государство само выжимало из организма соки здорового благосостояния.
На всей этой цивилизации лежит фальшивый внешний глянец. И религия, и искусство, и литература должны были снова и снова использоваться для того, чтобы с преувеличенной настойчивостью уверять, что с Римом и его отпрысками все в порядке, что его изобилие обеспечено, а победоносная мощь не вызывает сомнений. Об этой и подобных идеях говорят горделивые здания, колонны, воздвигнутые в честь побед, триумфальные арки, алтари с их рельефами, стенная роспись в жилищах. Священные и мирские изображения в римском искусстве сливаются воедино. С несколько игривою грацией и вне всякого сколько-нибудь строгого стиля доморощенные фигурки богов располагаются в окружении умиротворяющих аллегорий с прозаическими и повседневными атрибутами роскоши и изобилия, которые раздают маленькие прелестные гении. Во всем этом есть некая доля несерьезности, желание укрыться в идиллию, чем культура и выдает свой упадок. Ее игровой элемент выступает явно на первый план, но он не обладает более никакой органической функцией в устройстве и событиях общественной жизни. Политика императоров также определялась потребностью то и дело громогласно провозглашать общественное благо, прибегая для этого к древним сакральным игровым формам. Разумные цели, однако, лишь отчасти — впрочем, где и когда это бывает иначе? — определяют политику Империи. Конечно, завоевания нужны для того, чтобы через приобретение новых областей как источников снабжения обеспечить дальнейшее благосостояние; чтобы, раздвигая границы, укрепить безопасность; чтобы сохранить незыблемость Pax Augusta[539]. Но мотивы извлечения выгоды во всем этом подчинены некоему священному идеалу. Победы, лавры, воинская слава суть конечные цели сами по себе, это некая священная миссия, возложенная на императора[540]. В самом его триумфе[541] государство переживает его спасение или выздоровление. Агональный идеал сквозит в этом простирающемся на весь мир здании Римской империи, через всю ее историю, еще и потому, что и здесь основной фактор — это престиж. Каждый народ выдает войны, которые он вел или выдерживал, за доблестную и славную борьбу за существование. В том, что касается галлов, пунийцев и позднее варваров[542], Рим имел, пожалуй, некоторые основания для подобного утверждения. Но и в начале борьбы за существование стоит чаще всего не голод, а зависть к мощи и почестям.
Ознакомительная версия.