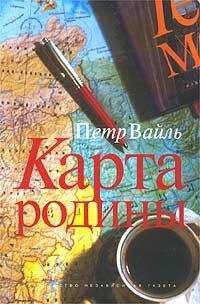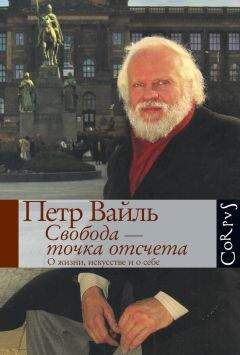Ознакомительная версия.
Может. С Чечней можно жить. Но далеко и надолго уползли и уползают метастазы того, что звучит диковинно, как диагноз, — Чечня. Концентрические круги бомбежки в любой момент могут начать стягиваться от окраин к центру. Непростреливаемые коридоры — простреливаться. Огонь — беспокоить.
Семьдесят пять атеистических лет христианству в России повредили больше, чем мусульманству. Но все же ссылки на волю Аллаха слышны не часто — обычно как междометие, как у нас «Боже мой». Другое дело — исламский строй души, подлинный, взлелеянный в генетической памяти фатализм. Его-то, в отличие от воинских подразделений, не победить — потому что не понять. Он уведет в горы из какого угодно Сиэтла и заставит жить таясь, голодая, коченея и уныло, как на привычную работу, спускаясь в долину, чтобы заниматься там скучным, но предписанным свыше делом войны.
Многое было чуждо и непонятно, я обращал к себе слова персонажа из культового фильма: «Восток — дело тонкое, Петруха!» Еще твердил двустишие, подтверждение которому видел вокруг ежедневно:
Судьбе, как турок иль татарин.
За все я ровно благодарен.
Это из едва ли не лучшего стихотворения Лермонтова» — «Валерик», который теперь звучит по-иному. О современной тактике войны:
… Подходим ближе.
Пустили несколько гранат;
Еще подвинулись; молчат;
Но вот над бревнами завала
Ружье как будто заблистало.
Об ожесточении сегодняшних боев:
Бой длился. Резались жестоко,
Как звери, молча, с грудью грудь…
О превращении войны в народную:
Нам был обещан бой жестокий.
Из гор Ичкерии далекой
Уже в Чечню на братний зов
Толпы стекались удальцов.
Сделаем поправки на время: с гор то спускаются, то снова уходят в горы. Шамиль через восемнадцать лет после смерти Лермонтова сдался князю Барятинскому, пожил на покое в Калуге и умер в Медине, закончилась Кавказская война, а через сто тридцать лет началась Чеченская. В тех же местах, с теми же именами:
Раз — это было под Гихами…
Гихи всю войну прошли расколотыми надвое: половина за Дудаева, половина — за оппозицию. Вот соседний с Гихами Валерик — дудаевский. В Валерике было мирно. Кое-кто бродил с автоматом на плече, но на это перестаешь обращать внимание, как на канонаду. У моста раскинулся маленький базар с ворохами похожей на крупную солому черемши, которую можно, оказывается, не мариновать, а просто отварить и потом жарить в масле. Я купил вкусный хлеб местной выпечки и ломкий круг домашнего сыра. Коровьи туши свисали на продажу с ворот — типично чеченских: железных, цвета морской волны с белым гнутым орнаментом поверху, с излюбленной народом олимпийской символикой 1980 года. На мосту у мечети толклись старики в барашковых шапках, драповых пальто, неизменных галошах с толстыми шерстяными носками. Под мостом дети с разбега прыгали через речку — ту самую:
Как месту этому названье?
Он отвечал мне: «Валерик,
А перевесть на ваш язык,
Так будет речка смерти.»
У этой речки столкнулись два мироощущения русского поэта. Привычное и приобретенное или, точнее, — то, которое он стал осознавать здесь. В одном стихотворении разные строки словно написали разные люди. Один — знакомый, прежний:
Я думал: «Жалкий человек.
Чего он хочет!., небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?»
И тут же — другой, уже начавший погружаться в тягучий восточный соблазн:
Не все ль одно. Я жизнь постиг;
Судьбе, как турок иль татарин,
За все я ровно благодарен;
У Бога счастья не прошу
И молча зло переношу.
Худосочный грязный Валерик выходит из плоских грязевых берегов, наполняясь живыми и мертвыми людьми — встреченными в Чечне, о которой помнишь, что она юг, но это восток. Магомет Яхиев в своем обреченном доме, контрастно белые лица девочек в дверях погреба, первокурсник Хасаханов с подвязанной челюстью у дороги, Муса с его «гуманитарной помошью», женщина под простыней на носилках в Шали, старики в Аргуне у огненного языка, увозимый в горы младенец Мансур года рождения 1995-го.
Зато видал я представленья,
Каких у вас на сцене нет.
Чувствую, как меня коробит «зато», и думаю, что всегда считал всякий опыт бесценным, но теперь сомневаюсь. Наверное, я мог бы обойтись в жизни представлениями на сцене. Мы ехали по полю в объезд, потому что дорога простреливалась; только что потеплело, грязь подсохла, но воронки ведь не заросли, и когда в очередной раз тряхнуло, вдруг вспомнил, что у меня дома в Нью-Йорке билеты в «Метрополитен-оперу», на «Пеллеаса и Мелизанду». Вполне чеченские имена, подумал я, тут же забыв, что на свете может быть Нью-Йорк.
Как месту этому названье?
Он отвечал мне: «Валерик…»
Все точно у Лермонтова, кроме одного. В названии реки и села ударение приходится не на последний, а на второй слог. У чеченской речки смерти ласковое русское имя — Валерик.
Разглядеть ли с птичьего полета переулки, углы, дворы, скамейки, которые есть судьба? Те кусочки планеты, за которые уцепилась твоя жизнь. С ними навсегда связаны сделавшие тебя миги — не выстраданные вердикты, не решения путем и надолго (угрюмые слова: «обмозговать», «потолковать»), а мимолетности — их только и вспоминаешь, они только и оказываются важны. Тут торжествует принцип не Гёте, а скорее Бродского: «Остановись, мгновенье, ты не столь прекрасно, сколько ты неповторимо». Такими конфетти усыпана Москва, и чем пустяковее — тем дороже. Разглядеть ли с безнадежной высоты возраста то, что для тебя этот город? Патриаршие пруды, в те времена Пионерские, где примерзал к стальным поручням, но не ушел и не отпустил домой, пока не объяснились. Переулки Замоскворечья, особенно тот, с остатками Марфо-Мариинской обители, куда исчезла на постриг героиня бунинского «Чистого понедельника». Петровские ворота, где снимал комнату, и каждый день шумел — по Высоцкому — «у соседей пир горой», у всех тридцати трех соседей, и мы сообща выпили весь портвейн из магазина «Рыба» напротив нынешнего бронзового певца в позе занятого зарядкой: «Вдох глубокий, руки шире…». Святопименовский храм в Новых Воротниках в Сущеве, возле которого в престольный праздник гарцевала конная милиция, придавая тревожной важности событию. Весенние арбатские дворы, где до сих пор — но уже без тех надежд и оснований — побуждаешься по формуле Окуджавы: «Из каждого окошка, где музыка слышна, такие мне удачи открывались…».
Здравого смысла хватает на то, чтобы понять: больше всего на свете меняешься ты сам. Но переменился и город. Помню, показывал фотографию знакомым — москвичам тоже — с просьбой определить страну и место. Сквер, белые столики с пивным именем на красных зонтиках, темно-серые стены с рекламой. Ответы какие угодно, кроме правильного: на снимке — Пушкинская площадь.
Речь не о потере Москвой лица — того, что принято называть индивидуальностью: лицо преображается. Тысячи квадратных метров рекламы заменили рекламу прежнюю, некоммерческую, которой было не меньше, и повелительный пафос тот же — правда, слова употреблялись другие: не «купи», а «крепи». Несколько сотен тонн штукатурки и краски вывели в свет дома примечательно московские, о каких и не подозревали: кремовые, салатные, розоватые и прочих пастельных тонов дворянские и купеческие особняки. Как и прежде, по-московски не ухожены парадные и мостовые, но хоть видна мойдодыровская тенденция, и понятно, что умыться и причесаться проще, чем купить новые ботинки.
Вместе с общегородским стали благостнее отдельные лица: у уличной толпы смягчается привычное озабоченно-недоброжелательное выражение. Даже у продавщиц сменилась интонация: вместо агрессивно-враждебной — устало-снисходительная. Не «вас много, я одна!», а «как странно, неужели не ясно, что человек занят?»
Что до неизменности, простор и климат — герои бытия. Главный москвич — все еще Цельсий. В Москву противопоказано приезжать зимой: слишком уж выразителен перепад. Париж на все сезоны один: чем выше цивилизация, тем меньше зависимость от природы. В зимней Москве после пяти часов тускло и на главной улице, а шаг вправо-влево — и погружаешься в серую сырость, отчетливо различая неблагозвучие слогов в имени: Москва. Пастораль, зелень, лепнина, купола — эти летние козыри с сокращением дня сходят на нет. В декабре Москва — город третьего мира, в июне — первого разряда. Уровень города определяется его темпом и ритмом. Москва орудует как снегоуборочная машина — гребет, затягивает, крутит, швыряет, и противиться нет ни возможности, ни — что еще важнее — охоты. Правда, вдруг возникает мысль: может, к машине забыли подогнать грузовик? Полет оборачивается каруселью, но иллюзия движения так велика, что она уже и есть само движение.
Ознакомительная версия.