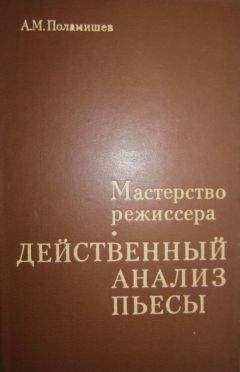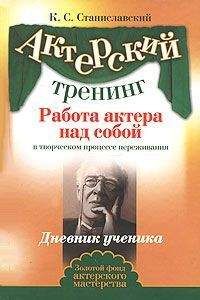Ценность или несостоятельность найденного декоративного решения становится по-настоящему наглядной только тогда, когда уже готовая декорация устанавливается на сцене и актеры начинают пробовать в ней действовать. Если режиссеру и художнику удалось угадать необходимую, пластическую среду, то соединение декораций с действиями актеров прекрасно дополняют, продолжают друг друга. А если режиссер и художник ошиблись?
Как правило, в таком случае начинается очень мучительный и неестественный процесс выпуска спектакля. Меняются интересно родившиеся на репетициях мизансцены, так как они «не влезают» в оформление, выбрасываются целые части оформления… Оставляя в стороне этическую сторону подобной формы работы, можно уверенно сказать, что спектакль, выпускаемый при таких обстоятельствах, не сможет быть художественно цельным.
Преимущества метода действенного анализа при работе режиссера с художником явны и наглядны. Поскольку период «работы за столом» сводится к 3–4 репетициям, а затем актеры сразу же выходят на сценическую площадку (пусть это будет репетиционный зал, даже комната), то очень скоро режиссеру становится ясна та внешняя среда, в которой должно происходить действие. Режиссер может позвать на эти репетиции художника (что и делают часто режиссеры, работающие этим методом), для того чтобы вместе убедиться в правильности или ошибочности предполагаемого декорационного решения. Идет поистине коллективная работа и над поисками оформления будущего спектакля.
При работе старой методикой обсуждение актерами макета или эскизов оформления чаще всего носит формальный характер. Да иначе и быть не может: актеры еще слабо знают смысл и пьесы, и своих ролей, а им предлагают решать один из конечных результатов — внешнюю форму спектакля.
При работе же новой методикой обсуждаемый макет, как правило, вызывает самое живое, заинтересованное, чисто деловое отношение со стороны актеров. Они уже попробовали себя в физическом действии и знают, что им предстоит в таком-то месте сесть, в другом месте пьесы падать или убегать. Более того, актеры вместе с режиссером успевают почувствовать и жанрово-стилистические особенности действия. Поэтому оценка оформления приобретает и еще одно качественное значение.
Но, разумеется, особенно явно преимущества нового метода проявляются при рождении мизансцен.
Выше мы говорили уже о том, что даже Мейерхольд при всей его приверженности к графичности, строгой неукоснительности в точном выполнении рисунка мизансцен, даже он мечтал об актере-импровизаторе!
При абсолютно последовательной работе методом действенного анализа будущие мизансцены спектакля рождаются в идеале актерами только в импровизации. Более того, никакая другая мизансцена, как правило, с таким удовольствием и так прочно не закрепляется актером, как найденная им самим в ходе импровизированного психофизического действия.
У режиссера, работающего новой методикой, вырабатывается привычка, навык — никогда не предлагать актеру готовой мизансцены. Даже если при домашней работе у режиссера возникла предполагаемая мизансцена, он знает, что эта мизансцена только эскиз. На репетиции он возбудит в актерах потребность к действию, которое должно будет подвести их к придуманной им мизансцене или… к какой-нибудь другой, но обязательно выражающей по смыслу содержание, которое, с точки зрения режиссера, заложено в этом куске действия.
Опыт показывает, что, как правило «какая-нибудь другая» рожденная на репетиции мизансцены бывает интереснее, богаче содержательнее той, которая пришла в голову дома. И это, очевидно, естественно. Потому что самое пылкое, самое проникновенное воображение режиссера не может столь досконально представить себе все психофизические действия, которые подчас легко и просто рождают разные живые человеческие индивидуальности актеров.
Сегодня в работе даже столичных театров, к глубокому сожалению, укоренилась практика так называемых «вторых составов» (а в очень «многонаселенных» труппах даже «третьих» и «четвертых» составов).
О порочности этой практики со всех точек зрения — и с художественной, и с коммерческой (в конечном счете), и с зрительской — об этом писалось много.
Работа новой методикой Станиславского исключает возможность создания одной и той же мизансцены разными «составами» актеров.
Много лет назад на одном из выпускных курсов актерского факультета театрального училища им. Б. Щукина готовился дипломный спектакль «Борис Годунов» Пушкина.
Роль самозванца — Григория Отрепьева — репетировал студент Ю. Во время учебы он успел зарекомендовать себя как актер яркого комедийного, даже эксцентрического дарования. Фантазия его была бурной и порой неожиданной (впоследствии он стал режиссером).
Репетировалась сцена «Келья в Чудовом монастыре».
Пимен (студент А.) взволнован, он находится в возвышенном состоянии духа — закончил этой ночью, несмотря на все трудности, опасности, свой многолетний труд. Григорий принял решение бежать из монастыря. До сих пор ему никак не удавалось от Пимена узнать подробности «убиения младенца Димитрия». Сегодня он решился добыть необходимые сведения во что бы то ни стало. Он пытается спровоцировать Пимена на откровенность.
Григорий.
Как весело провел свою ты младость!
Ты воевал под башнями Казани,
Ты рать Литвы при Шуйском отражал,
Ты видел двор и роскошь Иоанна!
Григорий-Ю. обвинил Пимена-А. в ханжестве: дескать, покуролесил в юности, пожил в свое удовольствие, а теперь изображает из себя праведника.
Со слезами гнева и отчаяния бросал эти слова в лицо Пимену Отрепьев-Ю.
Григорий.
Счастлив! а я от отроческих лет
По келиям скитаюсь, бедный инок!
Зачем и мне не тешиться в боях,
Не пировать за царскою трапезой?
Успел бы я, как ты, на старость лет
От суеты, от мира отложиться,
Произнести монашества обет,
И в тихую обитель затвориться.
В этом месте Григорий доходил др истерики, проклинал и «монашество» и «тихую обитель»!.. Он рыдал, катался по полу, рвал циновку…
Пимен растерялся. Причем поначалу растерялся не столь Пимен, как студент А. Но он вовремя спохватился и свою актерскую растерянность перевел на растерянность героя-образа.
Пимен.
Не сетуй, брат, что рано грешный свет
Покинул ты, что мало искушений
Послал тебе всевышний. Верь ты мне:
Нас издали пленяет слава, роскошь
И женская лукавая любовь.
Я долго жил и многим насладился;
Но с той поры лишь ведаю блаженство,
Как в монастырь господь меня привел.
Подумай, сын, ты о царях великих.
Кто выше их? Единый бог. Кто смеет
Противу их? Никто. А что же? Часто
Златый венец тяжел им становился:
Они его меняли на клубок.
Пимен, чувствуя почему-то себя виноватым перед Гришкой, пытался всячески его утешить. Но Григорий не принимал никаких аргументов старца. Он продолжал рыдать и метаться.
При упоминании «монастыря» Григорий взвизгнул, бросился к двери…
Голос Пимена зазвучал грозно — Григорий остановился. Очевидно, его заинтересовало упоминание царского имени…
Григорий-Ю. делал вид, что все более успокаивается. Пимену все более и более это нравилось. Он становился все более откровенным — он начал рассказывать Григорию об очень интимных, неожиданных сторонах характера самого Грозного!.. Он дошел в своем умилении до того, что Грозный в его изображении становился чуть ли не агнецом божьим.
Пимен.
И плакал он. А мы в слезах молились,
Да ниспошлет господь любовь и мир
Его душе страдающей и бурной.
Пимен в этом месте прослезился и окрестил себя крестным знамением. Григорий всплакнул тоже в умилении и истово перекрестился трижды.
Пимен.
А сын его Феодор? На престоле
Он воздыхал о мирном житии
Молчальника. Он царские чертоги
Преобразил в молитвенную келью.
Там тяжкие державные печали
Святой души его не возмущали.
Пимен стал перед иконой на колени, перекрестился. Григорий проделал то же самое, причем так истово поклонился, что лбом ударился об пол.
Пимен.
Бог возлюбил смирение царя,
И Русь при нем во славе безмятежной
Утешилась — а в час его кончины
Свершилося неслыханное чудо:
К его одру, царю едину зримый,
Явился муж необычайно светел,
И начал с ним беседовать Феодор
И называть великим патриархом.
И все кругом объяты были страхом,
Уразумев небесное виденье…
Опять крестное знамение и поклон; Григорий бьет в усердии лбом об пол дважды, затем оглядывается украдкой на стол, где лежит оконченная Пименом летопись.